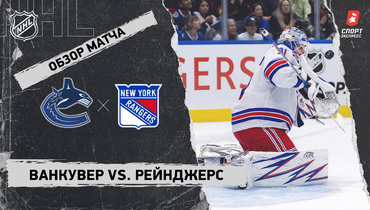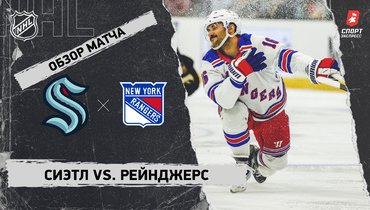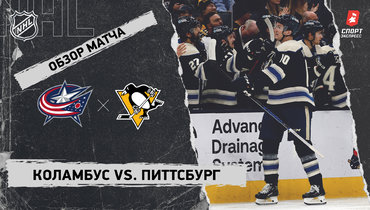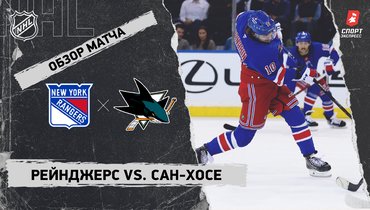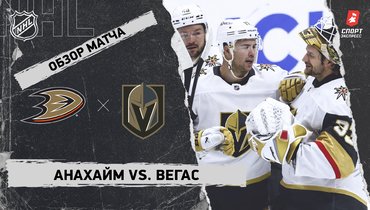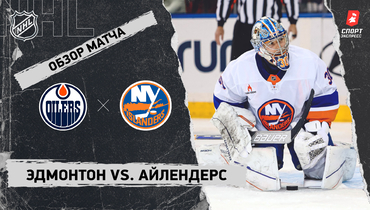Татьяна Тарасова: "Папа шел сквозь толпу, как ледокол. А люди вырывали у него волосы"
Этот монолог его дочери, великого тренера по фигурному катанию, многократного олимпийского чемпиона Татьяны Тарасовой – компиляция двух бесед с нею обозревателя "СЭ". Одна – для нашей газеты на юбилей Татьяны Анатольевны в феврале прошлого года. Другая – для фильма "Анатолий Тарасов. Век хоккея", созданного при поддержке "Карелин-Фонда". Он будет показан 11 декабря в 19.00 по "Матч ТВ". Более яркого, сочного, любовно прописанного до каждой морщинки портрета первого человека из СССР, принятого в Зал хоккейной славы в Торонто (но узнавшего о том лишь четыре года спустя – советские чиновники не сочли нужным его не то что выпустить на церемонию, а даже проинформировать о ней), невозможно себе и представить.
Государственное дело
Таких людей единицы, и рождаются они раз не в десять, а в сто лет, – говорит Тарасова. – Например, Сергей Королев. Он весь мир держал на одной кнопке. И папа весь мир держал на одной кнопке, только другой. Мама так нас воспитывала, чтобы мы это с ранних лет понимали.
Мы дома при нем ходили на цыпочках. Никто не орал, никто не плакал, никто не лез к нему в это время на руки, на закорки. Потому что папа занимался государственным делом. Мы это чувствовали и знали. Нам говорила об этом мама, хотя сам папа – никогда. Когда он был дома – всегда работал. Он все время писал, писал, писал. А мы не могли потревожить его тишину. При этом никакого давления он на нас не оказывал. Только если на дачу приедешь, он сразу – лопату и в руки. "Копай!"
Говорил ли когда-нибудь отец, что гордится мной? Нет. А чем гордиться-то? У нас в семье установка была – каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно – так чем гордиться? Только после пятой моей победной Олимпиады он сказал мне: "Здравствуй, коллега".
И мама не хвалила. У нас это не было принято. Это не значит, что мы с сестрой – недолюбленные. Как раз наоборот. У нас у всех была очень большая любовь друг к другу. Я выросла в семье, где царила любовь. Страха к отцу не было. Была боязнь его расстроить.
Но похвала с маминой стороны была одна. Вот здесь, на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". Это все еще были живы. И я запомнила. А если бы часто хвалили – в память бы не врезалось.
Правда ли, что отец каждый день выгонял меня маленькую на зарядку даже в лютый мороз? Правда. И это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые – не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?
Плакала ли при этом? У нас не принято было плакать. Даже когда могли лупить – это сейчас нельзя, но ничего страшного, за вранье положено лупить. Нет, не папа. Мама. А с зарядкой – вошло в привычку. Ты бежишь, тебе холодно, а папа смотрит с балкона и говорит: "Надо бежать быстрее – и будет теплее". Хоть в Новый год, хоть в день рождения. Для меня потом 31 декабря заканчивать тренировку в 22.30 не было никакой проблемой.
Котлеты из грачей и шкурок картошки
У папы не только в тренерские годы – гораздо раньше выдумка в нужные моменты работала как надо. Когда он уходил на фронт – написал маме записку. Все происходило очень быстро, из института их везли на вокзал. И вот мама приходит домой, и тут прибегает какой-то парень с запиской: "Нина, принеси мне на Курский вокзал шерстяные носки и еще что-то теплое". Транспорт тогда, в начале войны, в Москве почти не ходил, и мама пешком пошла.
Успела, конечно. Тем более что мама – лыжница, по 20 километров бегала как нечего делать. В маме мы всегда были уверены. Сто дел одновременно ей давали – и она все успевала. А тогда приходит на вокзал, но там вся площадь – плечо к плечу, кого разглядишь? Но она знала, что папа что-нибудь придумает. Глаза подняла – и видит, что папа… сидит на столбе. Забрался туда и как-то сел, зацепился ногами. Чтобы мама его углядела! Она туда пробралась, передала посылку – и, рассказывала, они даже не успели поцеловаться, как парней сразу отправили в вагон. Он только и успел сказать: "Нинуха!"
Про войну папа никогда не рассказывал. Мама учила лыжников, которые очень сильно помогли в обороне Москвы. Отец приезжал в увольнительную несколько раз. А у нас же как раз в 41-м родилась моя сестра Галя. Ее надо было кормить – но чем? Бабушка рассказывала, что папа, когда приезжал, стрелял в грачей на кладбище. Она их чистила на белом снегу, а вокруг все черное – вши разбегаются. Потом обдавала их кипятком. И они становились синие-синие. Потом варила, проворачивала и делала из них котлеты.
Вот так кормили Галю. Ну не было больше ничего! Еще у бабушки были фирменные котлеты из шкурок картошки. Все люди тогда так жили. Гале потом не разрешили спортом заниматься, потому что у нее был врожденный порок сердца. И вообще она была ребенком войны. Я-то вообще сидеть на месте не могла, а она – другая. Не такая живая.
Уже при мне папа гордился тем, что он – военный человек, полковник. Иногда носил, как он выражался, военное платье. Форма всегда висела в шкафу. Рядом со счастливым тренерским пальто…
Помню, как он эту форму чистил. До блеска начищалась каждая пуговица. А как иначе, если надо к генералам идти и что-то просить для команды! Неряшливо выглядеть нельзя. Тем более что просить-то – не для себя. Для себя он никогда ничего не просил. И военное платье папе очень шло. Он был в нем настоящий красавец. Из-под козырька – волосы волнистые. Прелесть!
Как он вернулся с фронта – не помню, чтобы бабушка или мама рассказывали. Знаете, еще почему, может быть, не помню? Потому что меня так рано отдали в спорт, что слушать было некогда. Вот этого – очень жаль. К тому же у меня с детства были тяжелые головные боли после того, как мы с папой разбились на машине, и дверная ручка проломила мне голову. С тех пор я сидела на батарее, ноги были опущены в кипяток, голова – завязана, и две таблетки пирамидона были уже во мне. Слушать что-либо с такой мигренью было тяжело.
А машину папа отремонтировал – и через день поехал. Как ни в чем не бывало. Ведь он – Тарасов.
"Мальборо" вместо "прибоя"
Кое-что мы от него, конечно, скрывали. Например, мы с сестрой рано начали курить. С бабушкой, папиной мамой. Если бы папа это узнал, то вместе с ней отправились с пятого этажа в свободном полете. Бабушка усмехалась: "Ой, девки, мать с отцом узнают – меня убьют!"
Мы бабушку просили: "Скажи отцу, что тебе курить нечего. Пусть он "Мальборо" из Канады привезет!" А то она курила "Прибой" и "Север". Говорила папе: "Толь, папиросы стали совсем плохие. Говорят, у них на Западе появились какие-то хорошие сигареты, "Мальборо" называются, что ли. Привези хоть попробовать на старости лет". Он привозил. Пробовали заодно и мы. Папа об этом никогда не узнал.
А так-то он к нам ни пальцем не прикасался. Это маму я выводила из себя, и она могла меня отлупить, когда я в очередной раз от няни убегала. Но папа – нет.
О трудностях папа никогда не рассказывал. Упоминал, что с детства пошел работать. Чего и Гале желал – и очень радовался, что она, учась в педагогическом институте, продолжает работать в школе. Ему нравилось, что ей трудно, что совсем нет свободного времени. А мама вообще работала с 13 лет.
Сам папа пошел работать на часовой завод в 14. И очень там преуспел. Вообще, руками он умел делать вообще все. Это тот случай, когда талантливый человек талантлив во всем. Вот он брал старый кожаный мяч, на котором уже и кожи давно не видно, все разорвано в клочья. И из этого мяча делал маме босоножки. Носить-то было нечего. Мне – уже не делал. Я же была поздняя, жили уже немножко по-другому. Мне он уже не шил ботинки, а привозил. Из-за границы.
Что касается воспитания, то однажды был случай. Мне было лет восемь. У нас с сестрой были обязанности по уборке квартиры. Мама работала в пищевом институте на кафедре физвоспитания, и мы с Галей должны были убирать по комнате. На мне была спальня. В тот день вся семья должна была выехать в Ленинград. Папа сказал, что есть три свободных дня, и он повезет всех показать этот город, где я никогда еще не была.
Приходит мама с работы, проверяет, как мы что убрали – и залезает под шкаф. А там я не была. После чего был недолгий семейный совет. В результате трое – родители и Галя – сели в машину и поехали в Ленинград. А я осталась. Бабушка говорила им с балкона: "Звери!" Но обсуждению это не подлежало.
Нет, не плакала и не обижалась. С детства у нас в семье был лозунг: "Ищи ошибки в себе". Так тяжело жить, потому что почти всегда ты виноват. Но так, мне кажется, правильней. А бабушка мне тогда дала мелочь на мороженое…
Гибель младшего брата
Юрка – это была папина любовь. Он же младшего брата воспитывал, поскольку отца у них не стало очень рано, бабушка поднимала их одна. Бабушка рассказывала, что они с папой были совсем разные. Папа – очень дисциплинированный, точный, Юра – гораздо мягче. Поэтому рассказ Алексея Парамонова, что младший брат мог опоздать на установку, а старший не открывал дверь со словами: "Товарищ Тарасов, установка уже началась, поезд ушел!", вполне понятны.
У Юры была красавица-жена Люся. Бабушка говорила, что она вертихвостка, но этого я не знаю. По фотографиям могу судить, что Люся была действительно красивой женщиной. Помню, как сидела у Юры на руках, причем как это – запомнила, не знаю, совсем маленькая ведь была.
В 1950 году папа был играющим тренером ВВС, Юра там же – игроком. Команда полетела на Урал. А отец вылетел на пять часов раньше, чтобы обеспечить приезд команды без накладок и встретить ее на месте. Папу это спасло. А Юра с хоккеистами погибли в авиакатастрофе под Свердловском. Увидев брата, папа рухнул без чувств...
Там сейчас братская могила, и, когда оказываюсь в Екатеринбурге, всегда туда хожу. И благодарна руководству области, города и хоккейному клубу, что они очень внимательно относятся к этой могиле.
Бабушка туда ездила, и с этого места привезла в Москву чемодан земли. Здесь (разговор проходил на даче Тарасовой в поселке Бузаево, – Прим. И.Р.), рядом с 75-м домом, было старенькое кладбище. Там уже не хоронили. Но бабушка как-то договорилась, чтобы ей выделили небольшой участок. Она сделала могилку и высыпала туда эту землю. Мы туда с ней ходили. Бабушка плакала и рассказывала, каким был Юра.
"Он же не в большом театре пел, а в хоккейной раздевалке!"
Почему таким успешным в сборной оказался именно тандем папы с Аркадием Чернышевым? Я что, профессионал в этом деле? Папа – он практик. И занимался в основном тренировочной работой. Не только армейцы, но и динамовцы, и спартаковцы все равно на нем воспитаны. У Аркадия Ивановича были другие функции. Но папа с Кадиком находили общий язык – он так его называл. В этой связке у каждого была своя миссия.
Папа, хоть формально и помогал Чернышеву, не чувствовал себя обиженным, поскольку каждый день вел тренировочный процесс, а его игроков в сборной было больше всех. И если он говорил, что Евгений Мишаков с тяжелейшей травмой, практически несовместимой с жизнью, забьет решающий, и поэтому его надо брать и ставить – его брали и ставили. И Мишаков забивал.
Они были двумя разными людьми, но болеющими за одно дело. И отношения с папой у них были очень хорошие, уважительные, кто бы что там ни говорил. Семьями встречались (жену Чернышева звали Велта), выпивали-закусывали. Из рюмочек вино пили. Да-да, из рюмочек! И ко мне Аркадий Иванович как к родной относился. Я же динамовка. И сыновья его для меня – как родные. Мы дети одного поколения. У Тарасова и Чернышева и могилы рядом.
Известно, что папа в перерывах важных матчей, когда команда проигрывала, вдруг мог запеть. "Интернационал", гимн Советского Союза, "Черный ворон"… Мы вообще всегда дома в застольях пели. Этим заканчивался любой вечер. У мамы был хороший голос, и мы с Галькой любили что-нибудь затянуть, и мамины сестры. Я тоже в хоре пела. Вообще, это была традиция в стране. Когда тебя переполняло, когда было хорошее настроение, то очень хотелось петь. И песни военных лет, и многое другое. Нынешние песни не знаю, как можно петь, а вот те – хотелось.
А папа говорил: “Мне медведь на ухо наступил”. У него слуха не было. Но он же не в Большом театре пел, а в хоккейной раздевалке. Говорят, что, когда нельзя что-то выразить словами, можно станцевать. Он – запевал. Это тоже прием. Неожиданный. Западающий в душу. Такое приходит мгновенно, это невозможно придумать заранее. Это я уже как тренер вам говорю.
Когда-то Игорь Моисеев говорил, что, когда нет слов, тогда вступает танец. А у папы вступала песня. Потому что она всегда несет ассоциации, и каждый понимает ее по-своему. И она перекрывает волнение, неуверенность в себе. Это гениальный прием. Но сама я им не пользовалась. Все по той же причине – надо придумывать что-то свое.
В Торонто очень просят отвезти в Зал славы какие-то вещи. Хоть шапочку, хоть перчаточку. Постараюсь это сделать. А может, передам книги, которые не переведены на английский. Или копию дружеского шаржа в "Известиях", который нам подарил дядя Боря Федосов, где папа изображен в виде дирижера.
"Артистов у нас в доме не было и не будет!"
После травмы (Тарасова получила ее в юном возрасте, после чего ее карьера фигуристки была завершена, – Прим. И.Р.) я вся была в печали, из которой папа меня вытряхнул. Не позволил долго в ней быть. Хотела танцевать, училась, поступала – и в "Березку", и в ансамбль Моисеева. Но рука моя была как тряпка. И отец сказал: "Иди на каток, помогай своим друзьям. Тренеров нет ни черта. Бери детей – и, если будешь хорошо работать, будешь счастлива всю жизнь". Так и оказалось. Он определил мою судьбу, сказав, чтобы я в 19 лет шла на работу тренером. И это сделало мне жизнь.
До того хотела поступать в ГИТИС на балетмейстерский. Но отец сказал маме: "Артистов у нас, Нина, в доме не было и не будет". Вопрос был закрыт. В итоге я постигала эту науку по ходу своей жизни. Мой муж Владимир Крайнев (выдающийся пианист и музыкальный педагог. – Прим. И.Р.) говорил, что я хорошо слышу музыку.
Смотрела множество балетных спектаклей, была допущена к Игорю Моисееву на репетиции. На всех ступеньках в Кремлевском Дворце съездов сидела, смотрела все по тысяче раз, как и в Большом. Что-то попадало в меня, трансформировалось – в общем, ставила я очень много. Это было и остается моей страстью. И больше всего скучаю по тому, что не ставлю.
Как-то спрашивает: "Сколько ты работаешь в день?" – "Восемь часов". – "А я к Жуку заходил, там работают восемь. И Чайковская работает восемь. Как ты их догонишь? Надо тебе работать по двенадцать годика четыре". А же знаю, сколько можно работать, у меня все ноги отмороженные. Мы же занимаемся на открытом катке. Но уехала из Москвы, была в Северодонецке, в Томске, в Омске, в общем, все время проводила на сборах. Потому что в столице невозможно столько времени быть на катке, на одну дорогу сколько уходит. А там живешь напротив катка, и тебя, кроме тренировок, ничего не волнует – мобильных телефонов, слава богу, не было. Как не было и тренеров по скоростно-силовой подготовке. Ты все делала сама…
На папиных матчах я была всегда. Галя по вечерам училась, а я приходила на каждую игру. И мама тоже. Но он вообще этого не замечал. Это не имело для него буквально никакого значения. И он не делал вид, что не замечал, а действительно не замечал. Он просто про это не думал.
Ко мне на тренировку папа приходил ровно один раз. И ушел. Как нарочно. Я тренировалась с Родниной и Зайцевым, у нас должен был быть прокат. И он пришел к нам на "Кристалл". Как он там очутился? Может, к Анне Ильиничне Синилкиной, директору "Лужников", заходил, не знаю. Но на самом верху над катком был один стул. Почти под потолком. Туда вело много ступенек вверх.
На тренировках всегда была на коньках. Мне так было удобнее, я хорошо каталась и была совсем молодая. А тут опаздывала и выбежала на лед в ботинках. И не сразу поняла, что сверху кто-то сидит. Потом посмотрела вверх. О ужас! Папа. А я – не на коньках. Фигуристы к тому же плохо разминаются. Тоже его не видят. И боковым зрением наблюдаю, как он, не дождавшись проката, уходит. Опустив голову вниз. Я уже была взрослая, но домой ехать боялась. Потому что все это было неправильно. Такого нельзя себе позволять.
Я видела изнанку папиной славы. Как он работает, как отдается. И как страдает. Поэтому с самого начала понимала, что эта профессия – не сахарная. Но было так интересно, так захватывало! В том же Ростове мы с подругой Ирой Люляковой открывали каток – там не было ни заливщика, ни машины. А были только два шланга. И вот мы с ней чистили, заливали лед, потом на нем катались. И так – четыре раза в день. На одну заливку уходил час.
Думаю, что многое во мне, конечно, от природы. Кровь же не водица. Миша Жванецкий писал своему сыну: "Сынок, имей совесть, а потом делай все, что хочешь". Потому что совесть не дает делать как попало. И та же ответственность, которая у меня с юных лет, – она же не из воздуха взялась. А от мамы и папы.
Мама была не слабее папы. Прекрасно общалась с людьми, ее все обожали. Заведовала женсоветом, вела большую работу с женами хоккеистов, которые ее очень любили. Она многие семьи спасла. А скольких людей вылечила от разных кошмарных заболеваний! Не жалела себя. Как и отец, и сестра Галя. У нас вся семья склонна к самопожертвованию.
Папа, красавец отменный, выбирал себе в жены, думаю, из многих. И выбрал маму, и мама служила ему даже тогда, когда он умер. Сидела, перебирала и подписывала каждую фотографию. Помню, ей было 90 лет. Вхожу в ее комнату – и вижу разложенные чемоданы со снимками. И каждый из них, начиная с 38-го года, она подписывает. Кто стоит, где играют, во что, в каком городе. Она все помнила и каждый день выполняла эту работу. Захожу, спрашиваю: "Мам, работаешь?" – "Работаю".
И имя папино она в обиду не давала. Как-то раз дядя Саша Гомельский что-то такое написал, что маме не понравилось. Она ему позвонила: "Сашка, ты вот тут неправильно написал". – "Ну ладно, Нинка, я же не переврал, а, может, что-то позабыл". – "Нет, Саш, звони в эту газету, вставь ремарку. Так не пойдет. Иначе я к тебе приду". Гомельский позвонил, исправился.
Слышала ли я шепот за спиной: мол, с Тарасовой при таком папе все ясно, ей-де дороги везде открыты? А я всего это не чувствовала. Просто пошла туда, где с первого дня стала нужна и счастлива. При том, что папа писал в газете "Правда", что федерация фигурного катания, видимо, обалдела, что доверила молодой девчонке работать в сборной СССР. А просто так получилось, что я взяла пару, которая сразу попала в сборную.
Да-да, папа писал такое. В "Правде". Что меня надо уволить. А что я могла ему сказать? Это было его мнение! Еще не хватало, чтобы я ему что-то говорила. Он-то лучше знает. И более того – это, наверное, было правильно. Я была 20-летней девочкой, которая в танцах, извините, ни ухом ни рылом.
Я не хотела опозорить отца. Это было как бы неприлично – работать там, где папа. Поэтому я никогда не была в ЦСКА. Когда каталась – в "Динамо", когда работала – в профсоюзах.
Четыре чемодана грибов
У папы была огромная картотека. Каждое упражнение, его цель, задействованные в нем группы мышц – были прописаны от и до. Это был труд на века! Один раз я у него попросила ее.
И он мне не дал.
Более того, даже был удивлен, что я попросила. Отрезал: "Ты – начинающий тренер. Почему я должен тебе ее давать? Думай своей головой!" И уже потом, когда я хотела дать ему одну книжку, он, хотя и был человеком очень образованным, отреагировал: "Себе ее оставь. Я из своей головы питаюсь". И правильно он сделал, что мне картотеку не дал. Сначала вроде взялась как-то обидеться, а теперь все понимаю. Так ведь можно все отдать, а своя голова не будет работать. Что особенно важно на начальном этапе.
Молодых хоккеистов он называл "полуфабрикатами". И моих спортсменов – тоже. Он потрясающе видел ошибки. И говорил: "Дочка, ты должна очень быстро видеть". Папа видел очень быстро. Еще одним его любимым словечком было "огольцы".
Став тренером, я к нему по профессиональным моментам никогда не подходила. Кто же дома говорит о работе? Но у него были какие-то рационализаторские предложения, и он шел – к Гальке, ко мне. Вливался в нашу жизнь. На дни рождения приходил – со своими соленьями, вареньями, бужениной. Все его обожали. А он обожал моего мужа Вову Крайнева, его компанию. Все садились вокруг него – и Вовины друзья, и мои, и спортсмены.
Он ничего для нас не жалел. В магазины, правда, не ходил. Не вполне отчетливо знал, что они есть. Мог купить на одну ногу два сапога. Хоккеистам давал свои суточные, говорил, когда их распускал: "Таньке – красное, Гальке – голубое, Нинке – белое". Потом привозил, даже не заглядывая: "Вот это вам". Детали его не интересовали. У всех платки были одинаковые, мохеровые. Как будто одну форму на всех делали! (смеется) Но мы были обеспеченные. У нас были туфли.
Я ему все время старалась что-то привезти. Он говорил: "Дочка, ну зачем ты деньги тратишь? Хотя... очень удобные". У него был пиджак, пальто счастливое – короткое такое. Он его на все матчи надевал, как я – шубу. И рубашки белые. А обычно-то – в тренировочном. Мы всегда в ЧШ были одеты – чисто шерстяное. Хоть зимой, хоть летом. Жили без излишеств. Но у нас все было.
Один раз привез четыре чемодана. Мы с Галей – вообще в отпаде. Думаем – вот сейчас нарядимся с ног до головы! Тем более что у нас были серьезные планы на выходные. Открываем. А там – белые грибы. Набрал в Финляндии. Четыре чемодана. Грибы надо варить. Двое суток, не разгибаясь. Чистили, варили, мариновали, солили, закручивали…
Мы могли молчать и знать, о чем каждый думает. В этом смысле у нас была очень счастливая семья. Когда у него уже была больная нога, и мы, мама и две дочери, были с ним на даче вчетвером, он говорил: "Какое счастье, что у меня родились девчонки, и жизнь так сложилась, что никто никуда не разбежался. Я, – говорил, обожаю слушать ваше щебетание. Мы готовили винегрет, и нам было так хорошо! И когда вырос Леша (внук Тарасова, – Прим. И.Р.), он любил с ним разговаривать.
У меня был спектакль "Спящая красавица", я его поставила в Великобритании, и мы катали его там в театрах. Для этого спектакля сделали потрясающие огромные кресла, но так вышло, что они оказались слишком тяжелыми и громоздкими для спектакля. Забрала такое кресло к себе на дачу – оно до сих пор там стоит. Папе было очень удобно на нем сидеть, и все его видели. Все в деревне шли, видели его в кресле и говорили: "Если Тарас сидит – значит, в нашей стране все нормально".
Мы его жалели, баловали, конечно. Он неприхотливый был человек. Но, конечно, то, что от работы отлучили... Я вот тоже приехала из Америки, провела там десять лет, подготовила три – наши, заметьте, – золотые олимпийские медали. И мне было 58 лет. Но меня тоже на работу здесь не взяли. Катка не дали, школу не сделали. Нет, я не сравниваю себя с папой. Потому что папа – это целая планета. Но мне кажется, что даже по отношению ко мне это было нерационально.
"Зал огромных людей стоял 40 минут"
Самый титулованный тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн называл себя учеником Тарасова. Он даже папины перчатки – точнее, остатки от них – приклеивал к своим рукам, когда выходил на тренировки. Какой документальный фильм американцы сняли о папе в прошлом году! Он все премии там завоевал. И, полностью посвятив себя хоккею и всем своим изобретениям в нем, цену себе, конечно, знал. Вообще, мне кажется, каждый человек, который делает что-то серьезное, знает себе цену. И поэтому не обращает внимания на мелочи.
За океаном люди все о нем понимают и ценят. Это радостно, но обидно. Помню, Галя с отцом ездила в Бостон, я уже работала в Америке с Ильей Куликом. Был сбор профессиональных тренеров, 500-600 человек. И папу туда пригласили. Он очень сильно хромал, ходил с костылем. Но решил, что на сцену выйдет без костыля.
Галя его нарядила. Мы очень волновались. Открылась дверь – и он пошел. Пожилой гений. Как по воздушной подушке. Весь зал встал. И стоял – сорок минут. Мы с Галькой плакали, как никогда в жизни. Папа был в белой безрукавке, чтобы живота не было видно. И вот он стоит – и все эти выдающиеся канадские тренеры ему рукоплещут. Потом он их потихонечку-потихонечку усаживал.
Мне показалось, что это был зал огромных людей. Огромных и ростом, и душой. Хоть они и с другого континента, говорят на другом языке, придерживаются других правил жизни. Но они были благодарны папе за то, что в своих книгах он подсказал им пути развития игры, придуманной в их же стране. И это при том, что в книгах написано не все, потому что он боялся выдавать секреты родины!
У мамы сохранился экземпляр контракта в Северной Америке на выпуск его последней книги. В пункте "условия оплаты" папа написал: "По результатам труда". Бессребреник. Он так никогда и не получил эти деньги. А когда его уже не стало, из Америки маме прислали пять тысяч долларов. В России, кстати, книга вышла только что.
А мы с Галей в Бостоне плакали не только от радости за отца, но еще и потому, что все это хотелось бы иметь у себя в стране.
Как снимали заслуженного после "Спартака"
Вот такое в Северной Америке к папе было отношение. А у нас – зависть страшная. Будь они прокляты, эти руководители. За то, что они папу от Суперсерии-72 отключили. У меня есть фотографии, где он еще задолго до того договаривается с Хрущевым насчет игр с канадскими профессионалами. Это был смысл его жизни. Брежнев подвел отца к Хрущеву, и папа сказал: "Мы больше не можем только тренироваться. Поверьте, что мы выиграем".
Знаете, с тех пор, как его не взяли туда – не то что тренировать, а даже смотреть, свиньи несчастные! – я начисто потеряла интерес к хоккею. Никогда больше не смотрела его. Впервые с 1972 года сделала это на Олимпиаде в Пхенчхане.
Ведь тогда для папы была большая трагедия. И матчи Суперсерии он с нами не смотрел. Он был на даче. И смотрел их один. Зачем ему мы, когда идет хоккей? Мы можем что-то спросить невпопад. Но, конечно, матчи он смотрел. Тут в "Легенде N 17” – художественный вымысел. Это же кино.
В 69-м, когда отец при Брежневе увел ЦСКА со льда в матче со "Спартаком", только заслуженного сняли. Я была на том матче со своей подругой Надей Крыловой, балериной Большого театра. После матча мы вышли из дворца и ждали его на улице. И видели то, о чем никто потом не говорил и не писал. Когда он вышел и хотел идти к машине, то вся площадь перед ареной в такт качалась. Она была заполнена спартаковцами, и они стояли плечом к плечу. И был страшный, тяжелый гул.
А машина находилась в самом конце дороги, у елок. Идти было некуда. Но папа, не поднимая головы, пошел. Мы – за ним. И вот он шел, и вся эта площадь перед ним раздвигалась. Он шел как корабль, как ледокол. Ни звука. Со всех сторон подпрыгивали, вырывали у него клочья волос. А кто-то до брови достал вообще, чуть ли не до глаз. Никакой милиции там не было. Но он ни на что не обращал внимания, был как каменный. Он шел, и мы шли за ним, и плакали, потому что на наших глазах у него вырвали почти все волосы.
Только когда папа подошел к машине, он повернулся и сказал: "Всем отвечу, когда сяду". Он сел в машину, открыл нам дверь, мы туда упали, все в слезах и в соплях. А он открыл окно, положил на него руку, как всегда клал. И сказал: "Спрашивайте". Народ подошел к машине быстро. Сначала стоял в шаге. И не знал, что делать. Папа этих людей не испугался и окно не закрыл. Они подняли нашу машину, покачали, бросили. И вся площадь разошлась. А мы поехали.
Я два раза в жизни видела его слезы. Один раз, когда мы с ним разбились на машине. У меня была черепно-мозговая травма, и с тех пор голова болит. Мне было семь лет. А второй раз – после "Спартака", когда с него заслуженного сняли. Он прямо упал на кровать и плакал. Больше – никогда. Даже после Саппоро. Заслуженный тренер – это было самое большое звание, которое только может быть у человека, который занимается этим делом профессионально.
Руководство страны такие вещи в принципе не прощало никогда. Это было чуть ли не хуже, чем уехать, – сорвать матч при генсеке. Но звание ему вернули. Это сделал председатель Госкомспорта Сергей Павлов. Папа сказал: "Я понял, за что с меня сняли звание, а за что вернули, не понял".
Запрет на профессию
А потом его в 54 года отстранили от работы уже навсегда. И это был запрет на профессию. Он больше никогда не работал тренером. Это вообще не укладывается в голове. У нас тогда квартира была – как вот эта комната, и мы с мамой и сестрой так его жалели...
Твари. Они убивали его. Кто? Руководители партии и правительства. Они уже вмешались в спорт – и гуляли там, рассказывали, кому тренировать и как. Они считали себя звездами. А года и века не по ним меряются.
Все произошло на Олимпиаде-72 в Саппоро. Я слышала, что они, руководители эти, просили его сдать чехам последний матч, когда мы за два тура до конца выиграли турнир, и нам уже ничего не было нужно. А соратникам по соцлагерю надо было помочь опередить американцев и взять серебро. Они с Чернышевым отказались, команда выиграла, США стали вторыми, Чехословакия – третьей.
Папа был совершенно не договорной. Он этого не понимал. Потому что был настоящим, большим тренером. Учителем, педагогом, профессором. Он не умел даже на этот счет думать. И дальше была расправа. Поэтому пришлось написать заявление.
Я как раз в Саппоро начинала, приехала туда со своей парой. А папа, получилось, там закончил. Заявление об уходе он написал сам. И Аркадий Иванович, Кадик, надо отдать ему должное, сразу сказал: "Толя, без тебя я работать не буду. Уйду с тобой. Подумай, может, еще поработаем?" Но папа сказал: "Нет". И они оба ушли.
И все. Его как будто заживо закопали. Прямо по ушки. Отобрали клуб, сборную – и не дали ничего взамен. Просто страшное наказание придумали, изверги. Сделали очень плохо ему и ужасно для страны. Потому что при папе с Чернышевым сборная выигрывала вообще все. А с его уходом потерялась настоящая система, по которой должен был развиваться наш хоккей.
Но папа откопался. И сосредоточился на "Золотой шайбе", которую когда-то придумал сам, а тут она стала делом его жизни. Счастлива, что сейчас ей руководит Леша, внук Тарасова. Потому что это своего рода семейный бизнес, и мы сделаем все, чтобы его никогда не уронить. И я буду на него работать, и что-то для него тоже придумаю.
Когда началась “Золотая шайба”, я Гальку просила из школы уволиться. Сестра 38 лет учила детей русскому и литературе, обожала свою профессию. Но я умоляла ее: буду работать, а ты езжай с отцом, потому что открытые катки – это воспаление легких. А он мотался везде. И я в этом смысле – в него. Хожу уже плохо, хромаю после операции на позвоночнике, но если уж куда-то еду, то работаю на максимуме.
Дирижер, обожавший Чехова
Читать папа любил. Любимый писатель – Чехов. А в последние годы Галя подкладывала ему разоблачительную литературу про советский период. Он метался, кричал: “Антисоветчица!” Встать не мог, костылем нас ударить. А Галька подкладывала.
Показывал ли он, как тяжело ему без работы? Мне говорил: "Не оглядывайся, дочка, надо смотреть вперед". Но мы все же на одной нитке. Так друг друга любили, что невозможно говорить даже. Да, злились иногда на него. Но это нормально. И все понимали, и все чувствовали.
Наша пресса не понимала значения его фигуры. Или не хотела понимать. Он сам писал много и по делу. Больше 40 книг написал – и сотни статей. И мне кажется, что журналисты и комментаторы испытывали к нему чувство ревности. Я, когда сейчас стала комментировать, тоже это ощущаю. К кому он тепло относился – так это к дяде Боре Федосову, который "Приз "Известий" организовал. Вон на стене моя самая любимая вещь висит. Дружеский шарж, на котором отец – дирижер, а вокруг все знаменитые хоккеисты. Это дядя Боря подарил.
Когда мы с папой входили во Дворец спорта (а в то время его вообще не показывали по телевизору), зал, состоявший из разных людей – армейцев, динамовцев, спартаковцев – вставал. Болельщики все понимали. А многие журналисты – нет. Они его щипали, все учить хотели. И ревновали к тому, что он много пишет – и не так, как они.
Что не сложилось с Виктором Тихоновым? Папа рекомендовал его, помню точно. Удельный вес у того был несравним с папиным. Но все равно отец говорил, что он лучше, чем все остальные. Папу сняли, но с ним советовались. Он же опередил время на 50 лет.
Но нет ни улицы папиной, ни школы имени Тарасова. Тот же Озеров жил недалеко от нас, в Загорянке. Они с папой в теннис играли. Улица Озерова там есть, а Тарасова – нет. Но то, что нет школы, расстраивает меня больше.
Три миллиона от "Рейнджерс"
У него даже не было мысли уехать. Правда, он не знал, что ему предлагали “Нью-Йорк Рейнджерс” тренировать. За три миллиона долларов. Но он все равно бы не поехал. Не представлял, как будет секреты Родины выдавать.
Письма из Нью-Йорка поступали, но до него они не доходили. Однажды ему позвонил Арне Стремберг (многолетний главный тренер сборной Швеции. – Прим. И.Р.) и говорит: “Анатолий, во всех газетах написано, что “Рейнджерс” тебе предлагает контракт. Мы все тут в ужасе, что ты не работаешь. Пишут, что ты болен и отказываешься. Чем ты болен, Анатолий?” – “Ничем не болен”. Он был еще молодой человек.
Это было через несколько лет после того, как его убрали из ЦСКА и сборной. А ведь ему предлагали дом, машину, переводчика. Того, что в Америке никогда и никому не предлагали. Он только руками развел: "А я вообще не знаю, что мне кто-то что-то предлагает. Кроме Нинки, что она мне предлагает на обед". ЦК КПСС на все запросы отвечал, что Тарасов болен.
Был один сезон, когда папа тренировал футбольный ЦСКА. Советовался ли со мной, прежде чем принять его? Не хватало еще. Кто я такая? Он принимал решения сам. Мама жалела его, говорила: “Толь, у тебя там все получится, но ты с ума сойдешь”. А не получилось, потому что его подвели колени. Тогда не было таких уколов, как сейчас. Он не мог двигаться, а поле-то там больше, видеть на тренировке все надо. Но многие футболисты говорили, что благодаря ему поняли, как надо тренироваться.
Незадолго до ухода папы вдруг услышала от него: "Дочка, почему ты не сказала, чтобы я ехал в Америку преподавать?" – "Как же, – говорю, пап, не сказала? Говорила, и не раз. Когда начала работать там с Ильей Куликом".
Я там только со своим работала. Мне американцы на два года запретили брать кого-то еще. Привозили проконсультировать Джонни Вейра или совсем маленькую Шизуку Аракаву, но заниматься с ними полноценно мне права не дали.
Тогда, после первого года в Штатах, и сказала: "Пап, давай поедем. Обоснуемся в доме, я все равно его снимаю, и по твою душу приедут через пять минут после того, как ты там окажешься". Но он возразил: "Нет, дочка, на твои деньги я туда не поеду. Ты мало зарабатываешь, и я не хочу жить за твой счет". А много заработать я действительно не могла, поскольку мне давали работать только с Куликом. "Пап, нам и на еду, и на врачей хватит. Я тебя застрахую. Поедем. Станешь консультировать, и будем жить на твои. Дашь мне возможность спокойно работать и не думать о куске хлеба".
Но, когда я ему все это напомнила, покачал головой: "Нет, ты, наверное, мне не так сказала".
"За океаном врачи не внесли бы ему гнойный сепсис"
В конце 80-х его все-таки выпустили в Канаду – на операцию бедра. А меня с ним не пустили! Председатель Госкомспорта Марат Грамов сказал: "Вдвоем вы не поедете". Я пыталась возражать: "Он никогда не будет плохо, он пожилой человек, никогда не оперировался. Я вас очень прошу! Хоть и с плохим английским, но буду за ним ухаживать. У меня есть пять тысяч долларов, только что полученных за золото Олимпиады в Калгари, готова ехать за свои деньги и быть рядом с папой". Не дали. И невозможно было объяснить, что и папа, и я, если бы хотели, давным-давно бы в Америке остались…
А через пару-тройку лет хоккей в Северной Америке стал уже не канадский, а канадско-русский. И, открути время чуть назад, папа мог бы там вообще творить чудеса. И там гнойный сепсис, как наши врачи, ему бы точно не занесли. Ездил бы на своей машинке спокойно и учил хоккею тех, кто хотел учиться...
В Лиллехаммер-94 отец приехал на коляске за год до смерти. Меня просили Торвилл и Дин, чтобы я в Лиллехаммер с ними приехала. Заглянула к отцу с Галькой... Да он бы еще жил и жил, если бы наши врачи ему смертельную инфекцию не внесли. А у него чемодан был собран, чтобы на чемпионат мира ехать. Они его убили. В 76 лет.
Он все равно всем был доволен. При том, что они с ним сделали... А еще он хотел купить машину. Мы ему говорим: “Пап, вставай. Иди в сберкассу, забери все деньги. Послезавтра ты на них не сможешь купить даже мопед”. – “Этого не может быть, потому что все мои деньги заработаны на виду у советского народа”. – “Вставай. Или дай расписку. А то еще через два дня ты не сможешь купить даже дверь от машины”. – “Нет, так не могут сделать с людьми”.
В итоге ничего так и не купил. Хотя очень любил “Вольво” и мечтал о ней, хоть подержанной. Ему когда-то хотели подарить за границей, но он не мог взять. Говорил: “Если я у вас возьму и мы, не дай бог, проиграем – скажут, что я игру сдал”.
Когда лет через шесть по наследству можно было получить деньги, которые он откладывал в банке, Галя туда пошла. А папа говорил маме: “Нинка, я всех девок обеспечил. Девки будут безбедно жить. 40 книг написал, никогда эти деньги не трогал. У меня есть 38 тысяч рублей”. А это – три “Волги”. Плюс дача или квартира. Мама ему: “Ты же знаешь, что девочки будут работать. А ты вставай, иди. Это твое, тебе это нужно забрать”. Не пошел.
Так вот, Галя пошла получать спустя годы. Ей дали 890 долларов. Даже тысячи не дали.
Меньшиков понял, что папа за человек
Когда была на премьере "Легенды N 17”, ни разу у меня не было позыва встать и уйти. Знаете, столько совершенно безобразных фильмов сделали об отце... В одном мама пьет не закусывая. Папа все время в качестве какого-то зверя выступает. И я это действительно сказала. В тот день мне позвонила Нина Зархи (кинокритик, завотделом зарубежного кино журнала "Искусство кино". – Прим. И.Р.) – и ей вообще заявила: "Не поеду". А она ответила: "Моя подруга была утром на журналистском показе. Тебе можно идти. Иди спокойно".
И Миша Куснирович сказал: "Ни на чем не настаиваю. Только прошу тебя приехать ко мне в ГУМ". А я его слушаюсь. Потому что он тот человек, общение с которым можно считать за большое счастье. И умница, и талант, и добрятина.
Даже специально не одевалась, приехала как есть. И очень благодарна, что испытала... такое. Странное чувство. В конце боялась даже на экран смотреть. Мне казалось, будто папа – здесь. Это и называется великой силой искусства. Честно. У меня даже два раза это было. Второй – когда мы поехали в Сочи, где фильм смотрела юниорская сборная России перед чемпионатом мира, и туда пришел Путин. И опять ко мне это состояние вернулось на нескольку секунд. Я вообще не могла спать. Такая у меня была связь с отцом.
Жаль, что они ко мне не обратились. Знала, что об отце снимают – и нашла много его старых фотографий. Думаю, что можно было сделать его абсолютно похожим. Ведь у Олега Меньшикова в лице есть то, что было у отца в молодости. Есть у меня одно фото, где просто очень большое сходство. Но они позвонили, когда практически все сделали, и позвали меня на съемочную площадку. Спросила: "Зачем? У вас же все сделано. Не пойду".
Но это не важно. Потому что в итоге я ему (режиссеру Лебедеву. – Прим. И.Р.) позвонила и поблагодарила. И Меньшикову – тоже. Видимо, он, достойный актер, просто понял, что папа за человек. А ведь по большому счету никто этим никогда не интересовался. Каждая его клетка была направлена на служение флагу. Для него это – Отечество, и это не было придумано. Так мы жили.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 28 |
| 2 | Нью-Джерси | 22 | 13 | 9 | 28 |
| 3 | Вашингтон | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 4 | Рейнджерс | 18 | 12 | 6 | 25 |
| 5 | Айлендерс | 20 | 7 | 13 | 19 |
| 6 | Коламбус | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 7 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 8 | Питтсбург | 22 | 7 | 15 | 18 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торонто | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 2 | Флорида | 20 | 12 | 8 | 25 |
| 3 | Тампа-Бэй | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 4 | Баффало | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 5 | Бостон | 21 | 9 | 12 | 21 |
| 6 | Детройт | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 7 | Оттава | 19 | 8 | 11 | 17 |
| 8 | Монреаль | 19 | 7 | 12 | 16 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 20 | 17 | 3 | 34 |
| 2 | Миннесота | 19 | 13 | 6 | 29 |
| 3 | Даллас | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 4 | Колорадо | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 5 | Сент-Луис | 21 | 9 | 12 | 19 |
| 6 | Юта | 19 | 7 | 12 | 17 |
| 7 | Чикаго | 20 | 7 | 13 | 15 |
| 8 | Нэшвилл | 20 | 6 | 14 | 15 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 2 | Калгари | 20 | 11 | 9 | 25 |
| 3 | Лос-Анджелес | 20 | 10 | 10 | 23 |
| 4 | Эдмонтон | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 5 | Ванкувер | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 6 | Сиэтл | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 7 | Анахайм | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | Сан-Хосе | 22 | 6 | 16 | 17 |
| 23.11 | 03:00 |
Питтсбург – Виннипег
|
1 : 4 |
| 23.11 | 06:00 |
Анахайм – Баффало
|
2 : 3 ОТ |
| 23.11 | 21:00 |
Филадельфия – Чикаго
|
- : - |