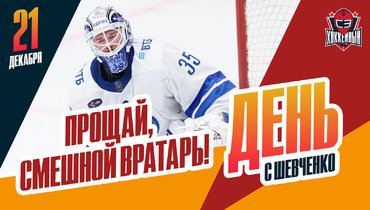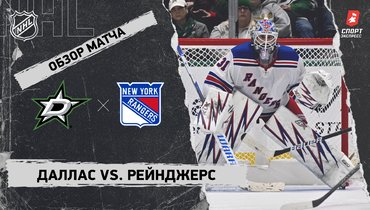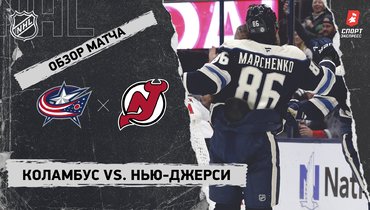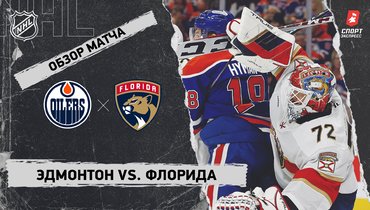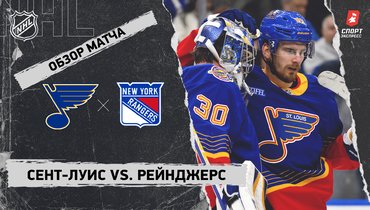«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
«Нет души!»
12 лет назад в конце ноября пришла новость из Мюнхена — умер Василий Алексеев. Тот ноябрь был не таким снежным, как нынешний. Помню, было тоскливо от окружающего монохрома. Мюнхенские новости легко вплелись в настроение.
Василий Алексеев — это одно из самых ярких интервью среди наших «пятниц». Может, не по сказанному, но по обстоятельствам — точно.
Да и наговорил Василий Иванович будь здоров. Вдруг прорвало на теме болезней — и выговорился от души. Хмурясь, бросая отрывистые фразы, глядя на нас колючими глазами. Будто это мы, московские корреспонденты, виновники всех бед.
Впрочем, кто знает. Может, он и прав.
Сегодня, спустя годы, у меня к самому сильному человеку ХХ века Василию Алексееву отношение очень доброе. Я понимаю, как скверно у него было со здоровьем. Как чувствовал этот огромный человек в 2011 году, что уходит по капле жизнь. Никто ему не поможет.
Может, доктора и спасли бы — но Василий Иванович не верил ни одному из них. Всякого держал за прохиндея. О чем наверняка информировал не только нас, московских гостей, но и самих докторов. Выздоравливать ему было сложно.
Зато уточнил между делом, кому верит. Стоило нам употребить слово «душа».
— Нет души, — сердито заключил Алексеев. — Материалисты давно доказали. Я материалистам верю.
Сегодня мне совершенно не обидно за тот прием в Шахтах. Так было даже интереснее. Памятно.
Главное, застали, успели. Пробелов среди первых лиц советского спорта у нас много — могли поговорить, но что-то не срослось. Каждое — как упрек: Юрий Власов, Александр Горшков, Леонид Жаботинский, Сергей Белов, Александр Гомельский, Александр Рагулин, Василий Смыслов...
«Сейчас с обрыва спущу»
Нас пригласил в Ростов тогдашний гендиректор футбольного клуба Юрий Белоус. Привез в те же дни то ли погостить, то ли осчастливить каким-то постом в клубе Христо Стоичкова. Нужно было написать в газете.
От таких предложений не отказываются — и мы ринулись в аэропорт. Заодно прикидывая, с кем можно поговорить в том Ростове.
— Алексеев! Шахты же недалеко? — предложил Саша Кружков.
— Звони скорее! — обрадовался я.
Далеко, не далеко — какая разница? К Алексееву можно и пешком отправиться из Москвы.
Василий Иванович звонку обрадовался. Показалось — будто ждал.
— Конечно! — слышно было даже мне. — Дорогие мои, приезжайте! Жду! Завернете в Шахты — любого спросите, где дом Алексеева. Укажут.
Так оно и случилось. На расстоянии Василий Иванович казался добрым дедом. Которому тесновато в Шахтах, соседям все давно рассказано — а Москва интересуется нечасто.
Мы не представляли, что ждет одно из самых странных интервью в жизни. Не догадывались, насколько Василий Алексеев — особенный человек. Даже сравнить не с кем.
Годы спустя соприкасавшиеся с Василием Ивановичем нам расскажут довольно обескураживающие вещи.
Кто-то припомнил, как прожил в Шахтах несколько дней:
— Периодически встречал на улице штангиста Васю Алексеева. Ходил он в линялой майке, вытянутых трениках и почему-то исключительно босиком. Кто-то его пристыдил — а он насупился, свел брови: «Алексееву можно все!»
А кому-то пришлось совсем туго. Великий фотограф ХХ века Дмитрий Донской едва не поплатился автомобилем после ссоры с Василием Ивановичем.
— На сборе в Подольске сцепился с Василием Алексеевым, великим штангистом. Хотел его в зале поснимать — заартачился. После тренировки вышел на улицу, высказал мне. Я в долгу не остался. Так что придумал этот бугай? За задний бампер легко приподнял мой «жигуленок», который на откосе стоял, прорычал: «Сейчас с обрыва спущу».
— Перепугались?
— Вытащил из кобуры травмат, который друзья подарили. Прищурился: «Попробуй...» Василий сразу сник. Обычно я со всеми находил общий язык. Но если попадался «бамбук» вроде Алексеева, думал: «Ну и черт с тобой. Обойдусь».
— С Жаботинским в этом плане было проще?
— Намного!
Как-то спросили мимоходом у другого знаменитого фотографа, Сергея Киврина:
— Василия Алексеева вы снимали?
— Нет. Его фотографировал папа для журнала «Советский Союз». Тоже история. После очередного мирового рекорда Алексеев из родных Шахт перебрался в Рязань. Там ему выстроили огромный дом. Олимпиаду, жену, записал личным тренером, получала неплохую зарплату. Каждый день с мясокомбината им привозили лучшие куски. Обком сдувал с Василия пылинки. И вот приезжает папа. Возле калитки протягивает пачку фотографий, которые попросил передать Юра Моргулис, он снимал Алексеева на чемпионате мира. Тот отстранился: «Да на хрена они мне?» Кинул в траву. Папа побледнел. А руки у него были очень сильные, прямо клешни. Схватил Василия за грудки, хорошенько встряхнул и прошептал: «Сука, немедленно подними! Придушу!»
— С ума сойти. Что же было дальше?
— Поднял. И началась съемка. Правда, Олимпиада фотографироваться наотрез отказалась. Плохо выглядела, вместо прически — нелепый пучок. Но нужен был хотя бы один семейный кадр. И когда передавала мужу рубашку, папа рискнул, нажал на кнопку. Вот тут случился второй скандал.
— Расшумелась?
— Закатила истерику: «Я же предупредила — меня не снимать! Отдайте пленку!» Папе ничего не оставалось, как вытащить ее и вручить Василию. Тот возле окна развернул, долго всматривался, наконец воскликнул: «А где же Липа?!» Не понимал, что пленку надо еще проявить. Вообще, закидонов у него хватало. Позже приехал к нему из нашего журнала другой фотограф с ответсеком Хотинским. Алексеев сказал: «Дам интервью, если у меня выиграешь».
— В домино?
— Нет. Хотинский должен был толкнуть ядро. А Алексеев — 16-килограммовую гирю.
— И?
— Хотинский выиграл! Метнул ядро на три сантиметра дальше.
«Бахилы надевайте!»
Знали бы мы все это раньше — настроились бы чуть иначе. Но ехали расслабленными. Василий Иванович любит, ждет.
В день встречи то ли погода изменилась, то ли настроение, то ли самочувствие. Прием оказался холодным. Почти лютым. Хорошо, с обрыва спустить никто нас не обещал.
— Проходите, — вздохнула самым горьким вздохом супруга Василия Ивановича, та самая Олимпиада Ивановна. — Бахилы! Бахилы надевайте!
В прихожей в самом деле стоял ящик с бахилами. Словно в поликлинике. Мы переглянулись — и исполнили.
Олимпиада Ивановна следила за каждым движением. Инструктируя как-то недобро, отстраненно:
— Ботинки не снимать. Прямо поверх.
Василий Иванович дожидался в комнате. Смотрел из-под бровей то ли с подозрением, то ли с ненавистью. На стуле сидел словно на лошади, спинкой вперед. Облокачивался могучей рукой.
Пожалуй, рука у Алексеева была как у корреспондента Кружкова нога. Если не больше. Упирался в собственную руку подбородком — и взгляд откуда-то снизу казался еще страшнее.
Через часок, когда Василий Иванович малость оттает в разговоре о недугах, я попрошу сесть так же — и сфотографирую. Только взгляд первых минут повторить не удалось. Что-то неуловимое ушло — зато пришло другое. Глаза у Василия Ивановича были грустные-грустные. Уже никакого вызова в этом взгляде, никакой досады. Одна лишь тоска.
Но это будет потом.
Ось от вагонетки
— Мы слышали, вы особые штанги изобретали, — кинулся задабривать я почти сразу.
Даже оглянулся в той светелке — будто рассчитывая увидеть особые штанги где-то за тахтой.
Алексеев молчал. По-моему, даже не кивнул.
Воображение нарисовало мне штангу с какими-то привязанными утюгами. Я же помнил давний его рассказ о том, как поднимал вместо штанги ось от вагонетки. Может, и здесь что-то вроде?
— Покажете? — с глупой улыбкой закруглил я.
— Еще чего! — вспылил вдруг Алексеев. — Это мое изобретение, мой эксклюзив! Просто так буду показывать?!
Мы пожали плечами. Нет так нет.
Разжалобить историей про стихи тоже не удалось. Мы знали — Василий Иванович увлекается. Оказалось, не настолько, чтоб афишировать.
— Помните что-то свое?
— Все помню! — насупился Алексеев. — Только никогда не читаю. Вообще никому их не показывал, даже жене. Я ей и без стихов за 50 лет надоел.
Разговор не слишком-то клеился. А это мы еще не задали те самые вопросы, которые были схоронены в самую глубину блокнотов. Когда Василий Иванович должен был расположиться окончательно.
«Каждый второй врач — шарлатан»
Располагаться он не спешил.
Самые каверзные вопросы хотелось вычеркнуть, забыть. Будто и не было их. Задавать только добросердечные.
Но и добросердечные отклика не находили. Как тот, про стихи.
Вспоминалась фотография — стоит довольный Василий Алексеев в костюме сборной СССР. Держит на какой-то дубине двух здоровенных мужиков. Те только ножками болтают в воздухе.
Воображение не дремало: вот и нас за скверный вопрос так прихватит за шиворот — да и вышвырнет в темноту Шахт. Меня правой рукой, рабочей. Кружков комплекцией пожиже — его можно и левой.
Будем сидеть на булыжной дорожке и переглядываться под фонарем. А места здесь особенные. Опять же — Чикатило.
Я даже выговорил это свое соображение:
— Чикатило же отсюда? — и кивнул в сторону темного окошка.
Василий Иванович внезапно обрадовался:
— Чикатило-то? Наш парень, шахтинский!
Кружков едва заметно вздрогнул.
Вдруг раздался телефонный звонок — резкий, будто пушечный залп. Вздрогнул уже я.
Василий Иванович тяжело приподнялся — и минут пять энергично кого-то отговаривал лечиться в Москве.
Наши диктофоны наматывали те наставления:
— Упаси Господь с этими аферистами связываться! Конченые идиоты. Я был в этой клинике — через двадцать минут под задницу дали — так я быстрее самолета летел. А руководитель их — просто бандит.
— Много шарлатанов среди врачей? — ухватились мы за сомнительную нить к сердцу штангиста.
— Каждый второй! Если не из трех два!
Василий Иванович еще не выпустил телефонную трубку из рук — и мне показалось, сейчас швырнет ее оземь. Но не швырнул.
Он подтянул стул, усевшись уже классическим образом. Показал на пальцах:
— Два врача!
Мы одновременно кивнули. Готовые изображать тех врачей. Случалось мне в юности играть в доктора — но не в таких обстоятельствах.
— Два, да? Оба пишут ядохимикаты. Противоречащие друг другу. Говорю: «Это не идет» — «Давай, жми».
— Это не мы, — хотелось пискнуть мне.
Но любознательный Кружков опередил:
— Спорт дарит много болячек?
— Я всегда говорил — при умном тренере болячек не должно быть. Главное, тренироваться по самочувствию. Если перепахал — перекури. Хоть штангист с несорванной спиной — большая редкость...
Василий Иванович покачивал головой огромной, как остров Пасхи.
Самое время было задать первый из недобрых вопросов.
— Помните, как первый раз столкнулись с анаболиками? — отважился я.
— Олимпиада-72! — буркнул Алексеев.
Мы молчали. Он тоже. Один футбольный тренер уж три раза переспросил бы: «Ну и?..»
Только не мы. Мы сильны терпением.
— Кто-то запустил лажу, что будет проверка. И за десять дней до Игр бросили принимать. Итог — четыре «баранки». У Ригерта в том числе. Но там проверки не было — она случилась в 76-м. Если в вашей Москве найдете время — отыщите протокол чемпионата Союза, который проходил в Караганде. А потом посмотрите результаты Олимпиады в Монреале. Небо и земля. Потому что в Союзе можно было жрать что угодно — а там запретили за 55 дней. И конец. Все жидко-жидко под себя сходили...
— Кроме вас.
— Я перед Монреалем 17 дней лечил пах, ничего толкового не поднимал. На Олимпиаде толкнул мировой рекорд — 255. Хотел вообще 265 толкнуть, чтоб всем ноздри прочистить. Журналисты помешали.
— Как?
— Затоптали мне весь помост. Штангу откатили. Я ж не могу им объяснить, что еще толкать хочу. Микрофоны мне под нос суют: «Мистер Алексеев, почему все плохо выступили, а вы установили фантастический мировой рекорд?» — «Кто на чем живет. Пейте рашн водку...»
— Вас в допинге никогда не подозревали?
— Да постоянно. Думали до 76-го года, что я на этом сижу. После пытались ловить. В Монреаль прилетел за 9 дней до Игр — прямо из аэропорта повезли на анализ. Штангу поднял — снова. А мой основной якобы соперник Плачков в Монреаль прилетел, но в колхозе не прописался...
— ???
— Сначала надо было в Олимпийской деревне прописаться — потом тебя на анализы отправляют. Так и ходил-бродил вокруг деревни. Улетел домой, выступать не стал. Понял: или вообще ничего не поднимет, или поймают. А основной конкурент — Герд Бонк из ГДР поднял вес на уровне второго разряда. Вот, кстати, история. В декабре 1975-го я переехал в Рязань. Вскоре звонит кто-то из вашей братвы. «Какая сумма нужна в двоеборье, чтоб выиграть в Монреале?» — спрашивает. — «420 кг хватит», — отвечаю. Хотя мой рекорд был 432. Просто я знал, что на Олимпиаде будет допинг-контроль, и это обязательно повлияет на результаты соперников. Но сначала в мае проходил чемпионат Европы в Берлине. Я там пару часиков почитал книжечку у окна — и слег с межреберкой. От боли два дня не мог сползти с тахты. Накануне соревнований объявляю тренеру — ставь запасного. А утром просыпаюсь — отпустило. Но деваться уже некуда — в Берлине остался в роли зрителя. Сидел, скрипел зубами, глядя, как Бонк устанавливает рекорд в толчке — 252,5 кг. Уж не знаю, чем его там накормили. Возвращаюсь домой — опять этот журналист звонит.
— С тем же вопросом?
— Да. Я повторяю — «420 хватит». Месяц спустя на чемпионате СССР в Караганде устанавливаю мировой рекорд — 435. Но через несколько дней Плачков в Болгарии поднимает 442,5 кг! И снова звонок журналиста, в голосе ирония: «Даже теперь цифра не поменялась?» — «Возьми фломастер и запиши — 420!» А что в итоге?
— Что?
— В Монреале Бонк осилил всего 405 кг. Но для серебра этого оказалось достаточно. А я поднял 440 и стал двукратным олимпийским чемпионом.
— Вам когда-нибудь предлагали анаболики?
— Был такой профессор Беленький. Как-то предложил попробовать. Я ответил: «На себе их испытывай». Но, думаю, в 1968-м в олимпийской сборной какую-то дрянь все-таки давали. Неспроста именно тогда у меня спину заклинило.
«Меня отравили свои же»
Среди наших вопросов было что-то про Олимпиаду-80 — где Алексеев выступал, но ничего не поднял.
Мы и не рассчитывали, что здесь спрятана какая-то драма — если б было что-то пронзительное, Василий Иванович рассказывал бы давным-давно. Корреспонденты старшего поколения расписали бы, обмусолили — как поражение Юрия Власова в Токио.
Тут-то и выяснилось, что прошлое хранит удивительную тайну. Которую великий Алексеев не рассказывал до этого никому. Но вот теперь время пришло. А если б мы не приехали в Шахты в 2011-м?
— Некоторые писатели, вышедшие из штангистов, все время видят сон — будто поднимают штангу...
Это Василий Иванович через годы, через расстояния послал легкую оплеуху как раз Юрию Власову. Которого по каким-то причинам знать не желал.
Мы оценили этот заход, сдержанно кивнув. Что же будет дальше?
— А меня штанга до такой степени достала, что и во сне гоню от себя, — сердито произнес Алексеев.
Нам почему-то казалось, что утро великого штангиста начинается с поднятия тяжестей. Оказалось, все иначе.
— Проснулся, очухался — и начинаю шевелиться. Телевизор посмотрел — ага, пора спать. А штангу последний раз наяву поднимал на московской Олимпиаде.
Слава Богу, нам хватило ума не внести ясность: «поднимал» — определение условное. На той Олимпиаде Василий Иванович только тужился, потел, но ничего не поднял.
Он словно почувствовал — и уточнил:
— В 80-м году меня отравили. Прямо в Москве. Это добавляет любви к вашему городу.
На эти колкости мы уже не обращали внимания. История требовала немедленного прояснения. Кто отравил? Как? Почему об этом книжки не написаны?
— Это что-то новенькое, — почесал в затылке Кружков.
— Как это — отравили? — вытаращил глаза я.
Василий Иванович посмотрел на нас как на 11-летних:
— Да очень просто. Налили, выпил — и готов. Дураком стал.
— Кто наливал?
— Свои же тренеры. Перед выходом на помост говорят: «Пей настойку на алтайских травах, эликсир бодрости». Выпил — и потерял рассудок, полным дураком стал. Думаю: куда я иду? Зачем это надо? Будто в перевернутый бинокль смотрю, штангочка такая ма-а-хонькая... А в висках бьет — будто молотком.
— Не подняли?
— 120 кило поднять не смог — а до этого 165 рвал в стойке.
— Когда отпустило?
— Как раз к банкету, после соревнований. Как водкой залил.
— Знаете человека, который виноват?
— Я вообще до правды время спустя дошел — да они сволочи, специально это сделали. Где-то через полгода. А делалось все для того, чтоб освободить дорогу моему напарнику по сборной СССР. Ему надо было медаль отдать.
— Стал он олимпийским чемпионом?
— Конечно.
— Общаетесь с ним?
— Он умер. А штангу для себя я поднимал еще долго после той Олимпиады. Тренировался, пахал по системе Николая Алексеевича Некрасова. Знаете такого поэта?
— Это что ж за система?
— «До усмерти работаем, до полусмерти пьем». Самая передовая технология. Да и методика жизни. Рекомендую, пригодится в Москве.
— Спасибо вам большое. Как же вы догадались, что травили специально?
— Да вот вычислил по их поведению. Равных мне в штанге не было ни в те годы, ни в эти — а меня по борту. Спрашиваю: это что ж такое? А мне в ответ: «Они тебя боятся». Мои же друзья — и боятся. Начал задумываться. Разложил по полочкам фразы, ужимки. Понял на сто процентов: ребятки это совершили специально.
— Чемпионом в 80-м стал Султан Рахмонов. Разговаривали с ним на эту тему?
— Общались мы часто и подолгу — но ни разу об этом не говорили.
«С Юрием Власовым не общаюсь»
Про Юрия Власова, тогда еще живого, мы спросили. Этот рассказ тоже оказался выпуклым и коротким.
— Не общаюсь с ним.
— Почему?
— Его сложно обнаружить — прямо как американского разведчика. Можете даже не искать, не получится.
— Почему?
— Потому что он скрывается. Характер такой.
— Странная черта для писателя.
— Никогда он открытым не был. На контакт не идет ни с кем. А насчет того, что Власов великий писатель... Я считаю, писатель он в кавычках. Когда Власову 75 исполнялось, мне позвонили, расспрашивали — я нашел много хвалебных слов. Но только по поводу его физических данных. Что касается моральных качеств — говорить не стану. Не наш человек.
— Всегда таким был?
— Власов всегда отдельно тренировался. Вот Жаботинский — нормальный мужик. С ним и пообщаться можно было, и пошутить. В штанге без юмора не проживешь. Мы таких людей не признаем. С Власовым они воевали долго и нудно.
— Власов до сих пор считает, что Жаботинский его обманул.
— Ну и пусть считает. А я считаю, что около штанги есть квадратный помост, четыре на четыре. Сбоку два судьи и спереди еще один. Еще пять членов жюри. Схема простая — берешь карандаш, столбиком прибавляешь — кто сколько поднял. Кто больше — тот и победил. Выиграл Жаботинский — а если тебя обманули, значит, ты идиот. Они что, в карты играли?
— Смешно вам было слушать эти разговоры?
— Да надоело мне это слушать. «Обманули» его... Ощущение, что он неприкасаемый и Жаботинский не имел права бить мировой рекорд. Такое сквозило.
«Не отмечен грацией мустанга»
Прощались мы, может, и не друзьями. Но уже добродушно.
Алексеев провел рукой вдоль шкафов. Разумеется, добавив:
— Видеть их не могу. 25 лет не смотрю на них.
Хотя тут же выяснилось, что очень даже смотрит.
— Вот этот, с пятью лицами, преподнесли в Архангельске. Лица вроде как континенты. А вот этот, огромный, Маркос вручал на Филиппинах — в разобранном виде пер домой. Воспоминания у меня только от медалей. Серебряных почти нет.
— Одной не хватает.
— Вот именно, московской. Точно мне досталась бы. Я после врача спросил: что могли подсыпать? Говорит — могли обыкновенного снотворного намешать. Но скорее всего, что-то серьезнее.
Мы, тяжело вздохнув за Алексеевым следом, вспомнили песню «Штангист», которую посвятил нашему герою Владимир Высоцкий. Эх, заговорить бы об этом в самом начале. Может, и потеплело бы. Но уж слишком были обескуражены.
Впрочем, выяснилось, что и к Высоцкому у Василия Ивановича некоторый счет:
— Песня нравится. Все, кроме первой части припева.
— Что там? — не смогли вспомнить мы.
«Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга —
Вечный мой соперник и партнер...»
Нам показалось — все прекрасно и к месту.
— Что значит «скован»? — снова рассердился Алексеев. — «В движениях не скор?» Это он про абстрактного штангиста — но не про меня! Я ведь, пока на Севере жили, с лыж не слезал, второй разряд имею. В прыжках в высоту и толкании ядра установил рекорд Шахт. Чемпион Архангельской области по борьбе. Сами видите, не штангой единой...
— С Высоцким так и не встретились?
— Не-а. Когда он три дня гостил в Шахтах, я то ли в Америке, то ли в Перу выступал.
Чуть встряхнувшись, Василий Иванович вернулся в образ. Снова клял всех вокруг словно Собакевич. Начиная с нас.
— Вы же журналисты, да?
Кружков замер со снятой бахилой в руках.
— Достали уже! Просто достали! — вывернул в ожидаемую степь Алексеев. — Все ко мне едут и едут. Хоть бы кто к себе пригласил.
— Добро пожаловать в Мытищи, — едва слышно проговорил я.
Алексеев не вслушивался и вслушиваться не собирался.
— Вот недавно одни явились, по всей комнате камеры расставили. Тьфу на них! Давайте, езжайте.
Где-то во мраке соседней комнаты проступал силуэт Олимпиады Ивановны, дай ей Бог здоровья. Все под контролем.
Не замечая протянутых рук, Василий Иванович захлопнул за нами дверь. Я так и брел к такси, вплетая шарканье бахил в стрекот цикад. Хороша южная ночь. Звезды какие! В прямом и переносном смысле. Эх, ч-черт, не догадались оставить те бахилы на память...
Зато остались фотографии. Отрывистый голос на пленке. Кстати говоря, добрые воспоминания. Через несколько месяцев я искренне скорбел, узнав о его кончине.
Сейчас понимаю, как нам повезло летом 2011-го.