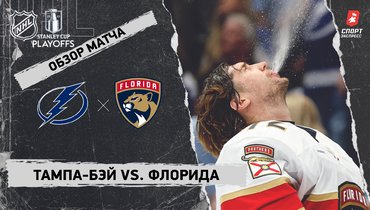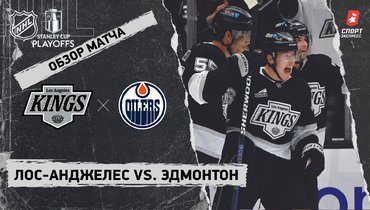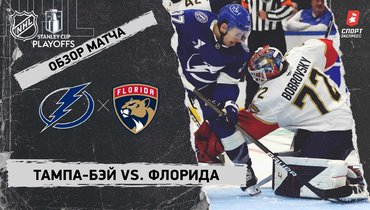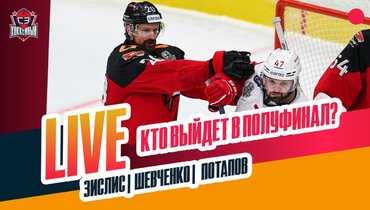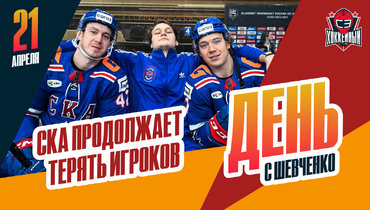Гений прошедшего века, чьи глаза смотрели в космос. Памяти Бориса Спасского
Это было великое счастье — говорить со Спасским. Одеваясь в прихожей, ловить его дружелюбный, почти ласковый взгляд. Верить и не верить, что вот здесь, на московской окраине, доживает свой век один из величайших людей ХХ века. В однушке на первом этаже. А мы с ним вот только что проговорили три часа.
Я верил в самые странные вещи, которые он произносил на прощание. Например, до последнего дня Борис Васильевич не сомневался, что матч с Фишером должен был выигрывать. Несмотря ни на что.
Он рассказал столько всего замечательного про поединок 1972 года, что невозможным казалось: неужели самая главная тайна не раскрыта? Осталось что-то еще?
Я замирал от неожиданности, потом выдавливал какое-то междометие. Подразумевающее «вы полагаете?..»
Спасский отвечал уклончиво, сопровождая слова такой полуулыбкой, что ясно было: за тем матчем стояло еще что-то, о чем знать нам всем не надо. Может быть, когда-нибудь...
Эту тайну Спасский так и не открыл — ни мне с Сашей Кружковым, ни другому московскому журналисту, которого обласкал вниманием в поздние годы.
Очень, очень жаль.
**
Даже в старости Спасский был необычайно красив — и не знаю, что мне доставляло большее удовольствие: фотографировать Бориса Васильевича или расспрашивать. В конце концов все перемешалось — я, застыв с фотоаппаратом в руках, пускался вдруг в расспросы.
За тридцать лет в журналистике я не так часто встречал гениев, но Борис Спасский, безусловно, был из них. Мне даже казалось, он смотрит сквозь всех нас, не особо задерживаясь взглядом. Глаза его устремлены в какой-то, одному ему ведомый космос.
Но вдруг взгляд становился цепким, будто оценивающим позицию. Начинал вспоминать потеплевшим голосом свою юность, первую любовь, адреса старого Ленинграда. Даже все это раскладывая на свой манер:
— Я же петроградец!
— Почему именно петроградец?
— Город Петра. Мне милее Петроград, чем Петербург или Ленинград. Последний раз приезжал домой в марте прошлого года. Навестил друзей, побывал на дне рождения Жореса Алферова.
— Дом вашего детства?
— Невский, 104, квартира 2. Коммуналка. Затем перебрались на 8-ю Советскую. В перестроечные времена заехал туда. Был в ужасе — тот же подъезд, те же запахи, те же крысы. С тех пор не был. Интересно, что-то изменилось?
— Какое место из ленинградской юности вспоминаете часто?
— В Аничков дворец, где находился шахматный кружок, приезжал до открытия. Стоял возле проходной, смотрел на Фонтанку...
**
Он восстановился после двух тяжелейших инсультов. Соображал великолепно. Уж получше, чем любой из заглядывающих в эту квартиру с визитом.
К недугам относился насмешливо:
— Два инсульта за десять лет. Первый случился в Сан-Франциско, читал там шахматную лекцию. Прооперировали удачно, я уже конем ходил. Второй раз хлопнуло в Москве. Пока держусь, живой! Но левая рука и нога ведут себя плохо. Забастовщики. Зато башка работает.
Я попытался сфотографировать в этой тесноте Бориса Васильевича сбоку. Чуть дотронулся до какой-то железяки и понял вдруг, что великий чемпион в инвалидном кресле.
Все это было очевидно, ручки этого кресла плед не прикрывал, но прежде я смотрел и не видел. Допустить не мог, что Спасский ходит не на своих ногах — столь живым, обаятельным он был. Даже молодым.
**
Мы отложили вопросы и говорили о жизни. О женщинах, о машинах. В тех и других Борис Васильевич знал толк. Вспоминал, как заснул однажды за рулем — и уцелел чудом.
— Это же приключение? — усмехался Спасский.
— Еще какое! — поддакивали мы.
— Это в Восточной Германии. Спасли «шашечки», которые были вдоль немецких обочин. Если водитель засыпает, скатывается туда, издают звук под шинами. Я мгновенно встрепенулся. За мной ехал приятель — перегонял в Москву «Мерседес» для какого-то араба. Говорю: «Коля, не могу. Ложусь спать».
Заметка вышла — и шахматные знатоки готовы по-остаповски швырнуть горсть фигур нам в физиономии. Сыпали восклицательными знаками:
— О чем вы говорили?! Вам выпал такой шанс — расспросить Спасского! А вы?! Вместо того, чтоб выяснить все про теорию дебютов, говорили с ним про какой-то «Рено-16»...
Да плевать на теорию дебютов. Нам было так хорошо, так вольно и тепло рядом с ним, что вспоминаю этот вечер с блаженством.
**
Расположился Спасский настолько, что охотно говорил о самом личном. О недавнем побеге из Парижа от французской жены. О потере всего шахматного архива:
— В 2012-м надо было убегать из Франции, пусть все там останется. Лишь бы живым!
Мы знали, что вопрос стоял остро. Но не предполагали, что на кону была жизнь великого чемпиона. Спасский уверял — его желали уморить. Поэтому нынешняя жизнь немного нескладная в быту — зато в душе покой. Самое страшное позади.
Надежды отыграться в безнадежной позиции Борис Васильевич не оставлял. Завершить поединок хотя бы вничью.
— Приходится мне маневрировать — по всей доске... Плюс веду войну!
— Что за война?
— Развожусь с французской женой и выхожу сухим из воды. Теряю все имущество!
— Прямо все?
— Да. Может, удастся спасти шахматный архив. Супруга уперлась. Французский сын тоже. Никто не говорит «нет». Формулируют так: «Ты приезжай сам и забирай». А это при моем здоровье маневр сложный. Я уже смирился, что потери неизбежны.
— Что из архива вывезли бы в первую очередь?
— Две рукописи. Почти дописал книжку под названием «Драматический матч».
— О битве с Фишером?
— Нет, про матч, который проиграл Корчному в Белграде. Еще в архиве книги, которые мне близки. «Маска и душа» Шаляпина, мемуары Юрия Морфесси. Там же фотографии, награды.
— Какие?
— Медаль чемпиона мира. С разных Олимпиад, выигрывал со сборной СССР.
— Корону чемпиону мира не вручали?
— В наше время вручали только венок из лаврушки. Эта лаврушка сразу отправлялась к женам.
— На суп?
— Ну да. Венка надолго хватало. С Ботвинником говорили об этом. Он первый венок тоже на супы пустил, а второй — сберег. Повзрослел, поумнел!
В каких руках сейчас это все? На каком аукционе выставят рукопись книжки? Время покажет...
**
Мы могли говорить о чем-то отвлеченном — и Спасский вдруг вздрагивал. Не дождавшись вопросов о Фишере, начинал говорить сам. Толковал горячо, живо. Что нам льстило — как с равными.
А великий Бобби, к тому моменту уже 8 лет как упокоившийся в исландской земле, выглядел в его рассказах немного непутевым, но чертовски одаренным ребенком.
Борис Васильевич искренне недоумевал, как отдал свое. Просто-таки досадовал.
Нам было странно думать, что все это негодование на себя самого живо спустя 44 года после матча.
— Мог ведь все прекратить, уехать победителем!
— Вы были правы, оставшись?
— Сейчас задним числом размышляю — напрасно так поступил. Нужно было Фишеру дать возможность добиться своего. Он начал сдавать матч! Представьте, что мы два боксера. Если один говорит: «Все, я сдаюсь» — принимай сдачу! А я отказался.
— Он понимал, что сдает?
— Еще бы! На вторую партию не явился. Судья включил часы и зафиксировал поражение Фишера. До этого матча он ни единой партии у меня не выиграл.
— Вы на третью вышли — и первое поражение.
— Да. Фишер получил огромную уверенность. Понял, что может бороться.
— Советские чиновники не настаивали на вашем отъезде?
— Да приказывали! Председатель спорткомитета Сергей Павлов полчаса разговаривал со мной по телефону. Расписал, что делать: «Пишешь протест на это, на то, улетаешь...» Но я уперся — буду играть! Дурак, конечно. Все-таки матч выходил за пределы индивидуальных интересов.
— Судя по всему, вы были уверены, что обыграете Фишера?
— Мне было его жалко. Видел — парень сходит с ума! А относился я к Бобби хорошо. Это Корчному, чтоб нормально играть, надо соперника ненавидеть. Я абсолютно не такой. Напротив меня сидел сбрендивший ребенок. Какая уж тут ненависть?
Но во мне должен был проснуться спортсмен, для которого победа важнее всего. Я фокусов не придумывал. В отличие от Фишера, который сыпал заявлениями по любому поводу. То предъявлял претензии исландцам как организаторам, то президенту ФИДЕ Максу Эйве, то советской стороне. Птички перестали петь в рейкьявикском заливе — кто виноват? Спасский! Лишь потом для меня открылось — весь этот прессинг был продуманным.
— Неужели?
— За Фишером стоял идеолог по фамилии Ломбарди. Его идея — держать меня в постоянном психологическом напряжении. Хотя уже во время матча я чувствовал — кто-то на Бобби крепко давит. Тогда думал на Крамера, сумасшедшего, он вился вокруг Фишера, будоражил...
— Это полковник, возглавлявший Федерацию шахмат США?
— Нет, полковник — Эдмондсон. А Крамер — бизнесмен. Невероятно крикливый!
Я упустил еще один момент — перед третьей партией приключился скандал между главным судьей Лотаром Шмидтом и Фишером. Бобби заорал: «Хей, заткнись!» Ну что за разговор?!
— Вы здесь при чем?
— Мне надо было просто встать: «Бобби, на сегодня хватит. Сыграем в следующий раз!» До этого со мной встретился Эйве: «Борис, вы можете уехать с матча в любую секунду, я пойму это решение. Бобби ведет себя ужасно. Никогда еще претендент такого себе не позволял...» Чтоб президент ФИДЕ говорил настолько откровенно — удивительный случай!
— Вот он к Фишеру относился скверно.
— В 1975-м Эйве ему отомстил — отобрал звание чемпиона мира и отдал без матча Карпову. Но это уже другая история.
— С Ломбарди после встречались?
— Года три назад в Дрездене на турнире для гроссмейстеров старше 75 лет. Ломбарди туда приезжал. Мне передали его слова о матче с Фишером: «Мы хотели любой ценой выбить Спасского из колеи. Он не должен был понимать, что происходит...» При этом больше всего боялись, что не выдержу и хлопну дверью.
— Балансировали по грани.
— Думаю, они знали, что творится в моей бригаде.
— Откуда?
— Я взял помощником Иво Нея из Эстонии. Он оказался американским шпионом. Сговорился с Робертом Бирном, который вел шахматный отдел в «Нью-Йорк Таймс», что станет соавтором книги о матче. Ней был в курсе всех наших замыслов, а американцы ждали от него информацию. Если б я решился на отъезд, бригаде Фишера об этом сообщили бы сразу.
— Как же КГБ допустил такого человека к вам?!
— Да какой КГБ... Знаю только о том, что Комитет послал там своего человека проверять стулья. Ночью.
— Зачем?
— Появилась информация, что в один из них помещен странный компонент. Вставка! В итоге исландская полиция действительно нашла в стуле такую штуку.
— Что это было?
— Деревянный наполнитель. Ни на что, конечно, не влиял. Полицейский, который обнаружил, оставил себе эту дулю на память.
**
Спасский рассказывал так артистично, напористо, что мы сами словно оказались в 1972-м году. Он говорил про исландские стулья — и мы их видели. Что-то гипнотическое! Не зря чувствительный к таким вещам Бобби хотел сбежать после второй партии...
Чувствовалось, что тот матч возвращался и возвращается к Спасскому ночами. Третью партию с Бобби Борис Васильевич играет снова и снова.
Мы много всякого слышали про поединки Карпова с Корчным, зачитали оранжевую книжицу «В далеком Багио», сами напрашивались на разговоры к Корчному и Карпову...
Но чтоб в матче Спасского и Фишера дошло до внедренных шпионов — это было что-то новенькое.
**
Нам очень не хотелось уходить из его квартиры. Понимали — едва ли окажемся здесь снова. Одной аудиенции у короля вполне достаточно. Какой бы теплой она ни была — второй не случится. Теплота вообще ничего не значит.
Мы даже не жали Спасскому руку — мы прикасались на прощание, словно к божеству. Едва касаясь его пальцев. Снова веря и не веря, что это тот самый Борис Спасский. От которого сходил с ума весь Советский Союз в 60-е.
Сегодня, спустя девять лет после нашего разговора, я очень хорошо помню его голос. Хотя обычно он-то забывается почти сразу. Остался снимок: я почтительно склоняюсь над Борисом Васильевичем. Непременно его найду прямо сегодня.
Специально медленно зашнуровывали ботинки, почти на ощупь — не отрывая глаз от портретов на стене, от книг по русской истории. На которую у Спасского, разумеется, был глубоко личный, неформальный взгляд.
Нам хотелось вернуться и раскланяться по второму разу. Снова почувствовать его расположение. Очень жаль, что оно не перешло в дружбу — но Спасский был уже очень стар.
Я и сейчас не верю, что все это было с нами.
Прощайте, Борис Васильевич. Гений прошедшего века.