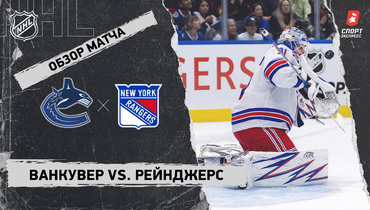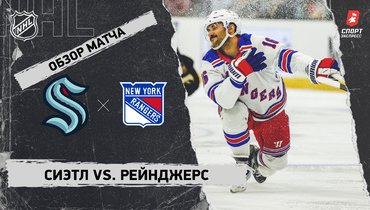«Переплыл реку — и стал искать сына среди тел». 12 лет назад умер Александр Галимов
С Шуплером в банк
Когда-то я очень любил Ярославль. Каждая поездка — словно отпуск. Знал всякий закоулок. Сам кого угодно проведу и сейчас к храму Иоанна Предтечи с тысячерублевой бумажки. Достану ту самую купюру в подтверждение, сверюсь. Расскажу миллион историй.
А на обратном пути напою из Круга:
— Я покажу тебе гостиницу «Бристоль», Тверицкий бор и старый Волковский театр...
Кто-то взглянет на меня удивленно — но я только воодушевлюсь. Продолжу:
— Поехали в «Свечу», нас Ваксман ждет.
Решив, что время уточнений пришло, укажу на тот самый Волковский театр за окном. Махну рукой в сторону переулков — там была гостиница «Бристоль». Но сейчас суши-бар. Расскажу, что тот самый Ваксман из песенки жив и бодр. Не старый еще человек, чуть за шестьдесят. Как прежде, директор Камерного театра. Билеты стоит заказывать задолго.
Всякий оказавшийся в Ярославле пропитывался добротой и милосердием. Это вам не суматоха Москвы. Владимир Юрзинов-старший, откинувшись на спину кресла, рассказывал в Ярославле столько всего, сколько никогда бы не рассказал в Москве.
Оттого и вписывались в прелесть здешнего пейзажа добряки вроде пана Вуйтека или Шуплера.
Как-то ждал Шуплера на интервью — тот вышел из президентского кабинета. Хлопнул меня по плечу, словно старого товарища:
— Мне сейчас в банк надо, дело неотложное.
Я кивнул. Понятно, что всякое дело в банке неотложное. Так что, мне подождать?
— Поедешь со мной?
Ха! Еще бы!
В пору, когда рулили клубами люди, слова лишнего корреспондентам не говорившие, — и вдруг такой персонаж?
В этом городе оттаивали главные молчуны нашего хоккея. В Ярославле я выяснял, что прекрасно излагают даже Алексей Яшин и Александр Пережогин из «Авангарда».
Николаев и джип морской пехоты
Сергей Николаев, придумавший хоккей в этом городе, встречал меня, корреспондента, прямо у вокзала. Чуть замешкавшись в пояснениях:
— Я подъеду... Я подъеду... Короче, узнаешь! Сразу поймешь!
Я заглядывал в окна всякого подъезжающего джипа. Во все «Мерседесы». Где ж Сергей Алексеевич?
А узнал сразу — как Николаев и обещал. Стального цвета джип на высоченных колесах. Неопределяемой марки. Вроде и Wrangler — но точно не Wrangler.
Николаев распахнул дверь, не вылезая из-за руля:
— Садись!
Я охнул, усаживаясь. Симулировал восторг, слегка переигрывая.
Николаев не заметил. Похлопал по рулю:
— Это джип японской морской пехоты. Единственный экземпляр в России.
Мне внезапно захотелось внести ясность:
— Вы уж завернули — «единственный».
— Единственный! — вдруг уперся Николаев. — Прямо в Новокузнецк мне доставили!
Поднял назидательно палец, обрывая спор.
Тут взгляд его упал на собственный ноготь — и настроение заслуженного тренера в секунду переменилось на глубокую озабоченность:
— Позавчера стриг. Уже отросли.
Еще на мгновение задумался — и вырулил в неожиданную степь:
— *** бы так рос.
Ярославль был самым уютным, самым смешливым городом. Самым светлым для меня.
Чурилковское кладбище
Но сегодня все иначе. Ярославль пропитан печалью.
Подступает грусть, стоит приблизиться по московской трассе к контурам нефтезавода. Хочется свернуть направо, на Кострому. Где всегда светло и беззаботно. Можно и налево — к Тутаеву, Рыбинску.
Я пересиливал себя, заезжал на то место, где все случилось с «Локомотивом» в сентябре 2011-го. В первые годы после катастрофы у меня получалось. Потом — как отрезало.
Тогда не было еще часовенки — зато валялась сломанная береза. Срезанная крылом «Яка». Лежали обугленные клюшки. Заезжали многие — не брал никто. Как-то хватало ума.
Сейчас, проезжая эти места, я только поддаю газа. Скорее, скорее, скорее мимо. Годы только обострили внутренний ужас. Через годы я понял, что все это навсегда. Ничего не переиграешь. Ни словоохотливый Марек, ни юморист Вьюхин, ни Ваня Ткаченко со своим иконным ликом не вернутся.
Я проскакиваю этот поворот — но все в этих краях напоминает о 2011-м. До сих пор ездят машины с наклейками. Уже меньше — но встречаются.
К мемориалу в Туношне сделали аккуратный съезд. Кто соберется — тому не приходится петлять наугад меж заборами. Как петлял я когда-то. Всюду стрелочки. Все для вашего удобства, черт побери.
А повернешь на Тутаев — проезжаешь Чурилковское кладбище. Где лежит вдалеке от своей команды Саша Галимов.
Когда проедешь, когда остановишься. Думаешь снова и снова: вот Саша. Он бы уж не играл, наверное... Наскоро вычисляешь: он 85-го. Близко к сорока. Точно — не играл бы. А вот каким бы он был в свои почти сорок?
Вот Урычев, Собченко до сих пор выходили бы на лед. Их представляю очень хорошо. Галимова в возрасте представить не могу. Таким и остался, как на этом памятнике.
Еду дальше — а Саша с памятника смотрит вслед. Мелькает меж веток парень в белой форме с красными полосами. Буковкой «Л». Видно издалека.
Вспоминаю, как пересилил себя через три года после случившегося, напросился в гости к родителям Саши. Как хватило сил на рассказы им? Как хватило душевных сил мне — все слушать, цепенея?
Годы спустя ездили к ним многие. Но тогда, три года спустя, все было не просто по живому. Слов не подобрать.
«Потом поеду за границу играть...»
— Памятник хоккеисты сами поставили, — рассказывала мне Елена Леонтьевна, мама Саши. — На этом кладбище в Чурилково дети «развлекались», 36 плит порушили. Нашу не тронули. Я б не пережила, наверное. Бог отвел. Или Аллах, не знаю. Ребенок наш под двумя богами ходил. Зато воруют все, что на могиле. Поставишь цветы, на следующий день ваза пустая. Болельщики приезжают к Сане — привязывают к ограде шарфы. Шайбы оставляют, значки, игрушки. Все пропадает. Только шарф «Ак Барса» пока висит. Но это уже четвертый или пятый из Казани.
А вот в Туношне, где самолет упал, ничего не таскают. Все как лежало, так и лежит. Шарфы, обгоревшие клюшки. Мемориал за месяц выстроили! По ночам!
— Ходите на кладбище часто?
— Два раза в неделю. Хоть мне говорят, что нельзя часто. Не стоит лишний раз беспокоить. Но съезжу, поболтаю с ним — как-то легче становится...
— Похоронили не с командой.
— Если б Саша умер со всеми 7 сентября — лежал бы на Леонтьевском. Очень любил деда с бабушкой. Когда было тяжело, ехал к ним на Чурилковское кладбище. Сама Марина, жена, это видела и сказала: «Давайте лучше с ними похороним». Ему там спокойно. А на Леонтьевском и бомжи, и алкаши лазают.
— Вы говорите про шарф «Ак Барса». Казань очень хотела переманить сына?
— Ну да, звали в последний год. Татарин же. Предложение было очень хорошее, но тогда куда только не звали. В «Динамо». Кажется, в Магнитогорск.
— Почему остался?
— В Ярославле вырос. «Локомотив» хороший контракт дал на четыре года. А главное, хотел второго ребенка. Говорил: «Мам, если что, поможешь». Клуб все по контракту выплатил. Но какой сейчас смысл в этих деньгах — если жизни нет? Прежде говорил: «Вот буду играть хорошо — вам, мама с папой, заработаю, чтобы жили и ни в чем себе не отказывали. Потом поеду за границу играть...»
В километре от Туношны
Дом их в километре, наверное, от той самой Туношны. Где весь ужас и случился.
Если тишина бывает давящей — то именно здесь. Прорвется изредка отзвук трассы. Редко-редко взлетит самолет. Должно быть, из иллюминаторов прекрасно видно то место, где сейчас часовня.
Мы ступали по осенней листве. Елена, совсем молодая женщина, дотрагивалась до елочки. Рассказывала:
— Это Саша посадил две голубые ели. Одна увяла. Я на это место можжевельник пристроила, чтоб совсем пусто не было. Посмотрим, приживется ли. Саша поначалу снился, а в последнее время что-то перестал. Но я чувствую его присутствие. Геру друзья сына увезут на рыбалку — я Сане жалуюсь: «Доброе утро, сынок. Папа уехал, что-то долго не звонит». Только вот не обнимешь. Не прижмешь.
Меня вели в старый дедовский дом. Позволяли подняться в комнату Александра. В которой все сохранялось так, будто Саша уехал этим утром.
Я замечал на полочке хоккейный шлем.
— Можно потрогать?
Мама коротко кивала.
Я дотрагивался, гладил. По зазубринам понимал — самый что ни на есть игровой.
— Да, игровой, — угадывал мои мысли Саидгерей, отец Саши. — В Минск Саша взял другой. Со специальной защитой. У него лицо только-только зажило.
Перчатка из того самого «Яка»
Теперь этот шлем стоит возле икон в углу. Рядом шитая-перешитая перчатка, побывавшая в том самолете.
Я возвращал шлем на место, брал ее. Думал — ведь не одна шайба в ней забита.
Хочу уж было примерить на собственную руку — но, опомнившись, вздрагиваю. Кладу на место.
Слушать — одно. Как и видеть заплаканные глаза мамы. Но дотрагиваться до обугленных вещей, вернувшихся из Як-42 обратно в этот дом — совсем другая история.
— Эту перчатку Саша Беляев все реставрировал, лежала в отдельном пакете. Поэтому уцелела. Из баула сына ничего до нас не дошло, все сгорело. А у многих целые баулы с формой сохранились, — рассказывала мама Саши.
— Я слышал, вам передали обожженный паспорт сына.
— Не обожженный, а залитый водой. Сейчас принесу, — Елена Леонтьевна идет на второй этаж. — С тех пор ни разу не разворачивала этот пакет. Вот все, что при нем было, — бумажник, права, деньги, паспорт. А вот пропуск на «Арену».
— Чей медальон на стене?
— Прислала девочка из Крыма, Вероника. Они учились с Сашей вместе. По скайпу сказала: «Тетя Лена, мне Саня приснился. Произнес: «У тебя родится пацан». — «Я хочу девчонку!» — «Точно будет пацан». Вскоре на УЗИ узнаю — жду ребенка, мальчика. Назову Сашей».
— Кто-то оказался в разбившемся самолете случайно. А был хоть один хоккеист, туда чудом не попавший?
— Максим Зюзякин. Вы не знали?
— Нет.
— Он должен был лететь с первой командой, но Петр Воробьев его отозвал — на подмогу второму составу. Наш Саня со швейцарских сборов вернулся подбитый, мы уж думаем: сломал бы челюсть в третий раз — глядишь, и не полетел бы в Минск. Рядом с нами участок Кати Урычевой, мамы Юры. Вот он вообще не мог оказаться на борту!
— Почему?
— Пять матчей дисквалификации. Еще рука сломана. С утра звонил маме грустный: «Меня не берут...» Прошло несколько часов — уже счастливый: «Лечу, берут!» А Салей? Он действительно собирался выехать в Минск накануне на машине, его даже не называли среди погибших!
— Знаю, что Олег Петров договорился о переходе в «Локомотив». Но приехать собирался в ноябре.
— А про Пашку Демитру не знаете? Он в день вылета отравился, с утра ужасно себя чувствовал. Повезли в больницу, все раздумывали — брать его на выезд, нет? Взяли...
«Правду узнаем лет через сорок»
Неподалеку взлетал самолет. Звук тяжелый, густой.
Я замер.
Взлетел!
— Взлетел, — произнес в тон папа Александра.
— Скажите, Саидгерей... — начал я.
— Зовите меня просто Гера, ладно?
— Конечно.
Я хотел расспросить обо всем том, о чем писали газеты. Мол, папа Галимова очутился на месте крушения почти сразу. Раньше спасателей. Неужели увидел обожженного сына?
Обо всем этом хотел спросить. Но мне было страшно.
Он словно понял — по взгляду в сторону взлетной полосы. Начал говорить без всяких расспросов.
— Лучше и не рассказывать, что увидел, — поморщился Гера. — Валялись пацаны как поросята. Вы же были на этом месте, видели мемориал? Вот вдоль по этому склону все и лежали. Обгорелые. Ночью, накануне этого дня, непонятный сон — будто я на войне, все кругом горит, таскаю раненых. Во сне кричать начал. Жена растормошила: «Гера, Гера, что ты...» — «Господи, надо же такой ерунде присниться. Какие-то обгорелые тела, я среди них». А вечером увидел своими глазами.
— Все обгорели?
— Нет. Гена Чурилов, Ваня Ткаченко словно уснули, прямо в креслах. А от кого-то вообще ничего не осталось. Я-то не знал, что Саня наш живой и его уже увезли. Подъехал с другой стороны к реке, переплыл — и стал искать сына среди тел. Хоть уже оцепление выставили. Не он. И этот не он... У кого-то золотая цепь как у Сани, переворачиваю — нет, не он. Наткнулся на Марека. Еще рыженький мальчишечка мне в глаза бросился, Даня Собченко. Пожарные подошли: «Ладно, ладно, пойдемте». Кто-то куртку на меня набросил. Вода-то ледяная. Из-за этого инвалидность получил.
— Из реки вытаскивать никого не пришлось?
— Там уже не было никого. Когда переплывал, сплошной керосин вокруг. Носа самолета не было вообще, а хвост торчал из того места, где сейчас ступеньки к воде. Его еще тушили.
— Поначалу спасатели приняли Александра за пьяного рыбака?
— Да. Иди, говорят, отсюда. Он и пошел в сторону. Потом вернулся: «Я с этого самолета...» Тогда его под руки подхватили, подняли на катер.
— Я был на этом месте, взлетная полоса рядом. Высоко взлететь не успели. Почему ж одни трупы?
— Потому что баки полные. Думаю, и взрыв был. Погибли из-за огня и дыма, а не из-за удара. Если смотреть на взлетку, там небольшой сарайчик. Так колеса шасси прямо по крыше прошли. Из-за поврежденного крыла стало заваливать набок. Снес березу, ее обломок до сих пор лежит у часовенки. Думаю, правду мы узнаем лет через сорок. Как в случае с «Пахтакором». Хвост самолета до сих пор хранится где-то в ангаре.
— Саша прошел через полосу огня?
— Скорее всего, просто вылетел. Касание, взрыв и разлом — кого-то выкинуло. И он, и Сизов не были пристегнуты. Сизову повезло — он был в служебном костюме, который не сгорел. Это и спасло. А ребята в джинсах, еще в чем-то, что на них же полыхало. Поэтому все голые лежали.
— Говорят, Сизова и вашего сына уберегло то, что сидели сзади.
— Саша никогда не пристегивался. Пока стюардесса не подойдет: «Молодой человек, ремень!» — «Ну, ладно...» А когда с командой летал, даже во время взлета ходил по салону. С кем-то поболтать, посмеяться. Сейчас не поймешь, кто где был. Сизов точно сидел в последнем ряду. Обычно Саня Беляев был сзади. Когда нашли — он был страшно обгоревший. А волна огня шла спереди.
— В московской больнице сын чувствовал ваше присутствие рядом?
— Даже не сомневаюсь.
— Смотрели на него через стекло?
— Заходил в палату. Как только прилетели, профессор сказал — сейчас все необходимое сделаю, потом зайдешь и посмотришь. Открыто никто не говорил, что шансов нет — но можно было понять, что хорошего ждать не стоит.
— За те дни в Москве удавалось заснуть?
— Да ну, какое там... Мне отвели комнату прямо в больнице. Сначала мать Сани Овечкина, Татьяна, звонит: «Живи у нас!» Следом Илюха Горохов. «Нет уж, — отвечаю. — Я рядом с сыном».
«Не вздумай про это написать»
Сколько раз я ездил в Костромскую область, полную чудес. Проезжал мимо этого места.
С какого-то момента перестал в Туношну заезжать. Вроде и должно время что-то притупить внутри — но у меня только обостряет. Чувствую, как вокруг уходит память, растворяется. Поколение вырастает, знающее о трагедии по памятнику у «Арены» да по газетам. Для которых фамилии мало что значат — не переплетаясь с образом. Как расскажешь им про Рахунека, про Демитру? У кого хватит слов? Как описать восторг, который дарили эти люди?
Память притупляется — перерождаясь в легенду. Но живы еще люди, с которыми боль навсегда. Которые ничего не забудут и через двадцать лет.
Вот они. Живут возле аэропорта, вслушиваются в звуки самолетов. Как семья Галимовых. Их Саша возвращается во сне. С каждым стуком в окно.
Кто-то научился жить с трагедией — и вспоминает каждый день сына, брата, мужа. Не приняв сердцем, но смирившись. Веря, что встреча однажды будет.
А кто-то ушел за сыном следом, как мама Артема Ярчука. Легла на том же Леонтьевском кладбище неподалеку от сына. Который так и остался 21-летним. Вот что рассказывал мне папа Вани Ткаченко:
— Зима была морозная. На дорогах наледь. Сам я тогда ехал — кидает из колеи в колею. А дороги в Ярославле сами видите какие. Еще и узкие. Я, помню, поставил машину. Думаю — пока эта наледь не сойдет, ездить не стану. А мама Ярчука поехала со старшим сыном в тот день на автомобиле.
— Сама за рулем?
— Нет, парень управлял. А им навстречу ехала девушка, которая месяца три как получила права. Видимо, ее кинуло на встречку — где ехала Анжела. Не знаю, как они неслись с хорошей скоростью по льду...
— Такой удар был?
— Да. Сильный. В той и другой машине погибли пассажиры — а водители выжили. Как-то вывернули, что удар пришелся на правую сторону и там, и здесь. У девушки мужчина сидел лет сорока, а в этой машине на пассажирском месте Анжела. У нее аорта оторвалась.
Ушел год назад и похоронен возле собственной церкви в селе Федоровском тот самый отец Владимир, который окормлял «Локомотив». Венчал, крестил детей, разговаривал с ребятами. Особенно сдружился с тем же Ваней Ткаченко.
Ткаченко ездил в это Федоровское, помогал церкви. О чем-то расспрашивал. Должно быть, получал ответы и верил в услышанное. Во многом поэтому Ваня был такой.
Как-то я разнюхал про его благотворительные дела. Подошел, спросил между делом — и добродушный Ваня вдруг побледнел:
— Не вздумай про это написать.
Я пожал плечами. Не надо так не надо. Хоть странно все это.
«Не выдерживаю, озираюсь»
Еду сейчас в Рыбинск, превратившийся в город-музей. Словно из ХIХ века. Пожалуй, самый нарядный город России.
Знаю, скоро буду проезжать деревеньку Чурилково. Вот-вот то самое кладбище, где на мусульманском участке лежит Саша Галимов. В кладбищенском полумраке проступает его памятник очень ясно.
Стараюсь не глядеть. Сейчас опять вспомню, расстроюсь на весь день. Лучше буду следить за дорогой.
Почти проехал — и не выдерживаю, озираюсь. Вон он, Саша в белой форме. Смотрит с гранита — но не на тебя, а чуть в сторону. Где не останавливается игра, где шайба. Глаза живые. В его перчатке я угадываю ту самую перелатанную, которую примеривал когда-то к собственной руке. Но не решился надеть.
Я подмигиваю Саше как живому. Обещаю заехать на обратном пути.
Конечно же, заеду.