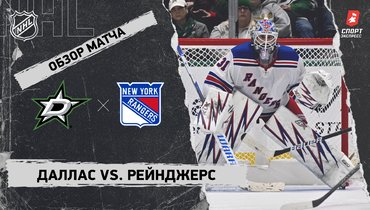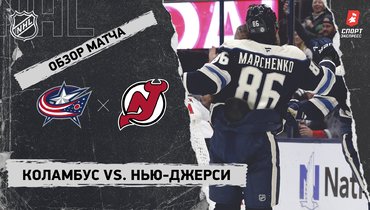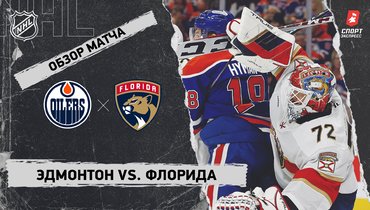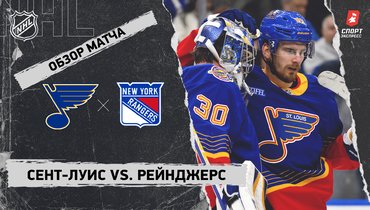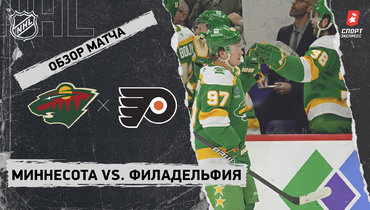«В Чечне меня дважды вели на расстрел». Разговор по пятницам с Сергеем Кивриным — легендой фоторепортажа
Киврин — наш образец в журналистском мире. Наш кумир. Пример благородства. Какой-то дореволюционный человек. Ну и легендарный спортивный фоторепортер, конечно. Получивший фотографический «Оскар» — World Press Photo — еще в 80-е.
Мы всё ждали повода напроситься на интервью, приехать к Киврину в подмосковное имение. Рядышком с удивительным дворцом Марфино. Они чудесно монтируются — наш друг Сергей Владиславович и эта красота. Мы едем и радуемся, что в удивительных местах живут и люди особенные.
Ждали, ждали...
Ну и дождались.
Киврину — 65!
Приступ
— С какими мыслями подходите к цифре 65?
— С удивлением. Не всем удается до нее дойти. Меня радует — смог! Два тайма уже отыграл. Теперь дополнительное время. Если повезет — будет серия пенальти.
— Наверняка будет.
— В юности меня волновало: как прожить жизнь, чтобы потом не было стыдно? Сейчас думаю — как ее закончить. Чтобы не доставить неудобств близким. Чтоб достойно все было!
— В чем чувствуете свои 65?
— Мозги и силы у меня, как у тридцатилетнего!
— Это здорово.
— В Пхенчхане шли с молодыми фотографами. Они к концу Игр подсдулись немножко. А я чувствовал себя прекрасно! Хотя Олимпиада — жуткое испытание на выносливость. 18 дней подряд спишь по три часа в сутки. Еще и тяжести носишь.
— Вы как-то говорили — фотографический рюкзак весит 35 килограммов.
— Помню, в 1992-м в Барселоне охранник не пускал на стадион. Отправлял куда-то в обход. Так я ему свой рюкзак повесил на шею одним движением. Еще камеру сунул в руки — попробуй!
— Реакция?
— Да он чуть не рухнул под этими 35 килограммами. Сначала кричал: «Прохода нет, вам надо туда!» Почему туда — когда здесь ближе и никому не мешаешь? Ну, почему? А тут сразу дошло: «Все, о'кей, иди...» Вообще мое убеждение: охранник — это образ жизни и национальность.
— Охранники везде одинаковые.
— Да! Можно случайно стать фотографом, но охранником — никогда. Это призвание. В Катаре на футбольном турнире чуть ли не драться с одним пришлось. Всё перегородили, натянули канаты, выставили полицейских — от горшка два вершка. А нас определили в такое место, что снимать могли все — родственники, болельщики, которые вышли на поле... Но только не фотографы!
— Что делать?
— Рванул через заграждения. Полицейский повис на мне. Стряхнул его — и побежал дальше. Еще и камерой замахнулся. Испугался!
— Снять успели?
— Один кадр — как Глушаков держит кубок.
— Если в 65 здоровье позволяет таскать на себе 35 кило, да еще с полицейским на рукаве — вам любой позавидует.
— Вообще это утомительно. В 1994-м заработал астму. Позже прибавился порок сердца. А командировки с юности давались тяжело.
— Вот бы не подумали.
— Да я страшный домосед. Не ту выбрал профессию. С радостью был бы композитором или художником. Чтобы не выходить никуда. А главное — не общаться.
— Вы нас поражаете.
— Для меня всегда было большим переживанием, когда заказывали очерк. Приезжать, как вы сегодня, в квартиру чужого человека, заставлять делать то, что мне нужно... Спортсмены и так света белого не видят, семью свою — а тут я! Правда, получали за это подарки. Фотографии.
— Астма — коварная штука. Работе сильно мешала?
— Не мог подобрать лекарство несколько лет — ходил с ингалятором. 1998-й, Олимпиада в Нагано. Пошел на могул. Представляете горки? Мне надо подняться метров на 25 по ступенькам. Шел полтора часа.
— Задыхались?
— Да. Еще горы, недостаток кислорода.
— Ингалятор не помогал?
— Нет. А если много брызгаешь — можно умереть от передозировки. Тоже опасная штука. Но особенно туго пришлось в 1996-м. «Ролан Гаррос» выиграл Женя Кафельников. Две недели турнира я пережил нормально. Летим обратно с Олегом Спасским, главным редактором журналов «Спорт в СССР» и «Теннис +». В аэропорту начинается приступ.
— Как это выглядело?
— Выглядело так, что не хотели сажать в самолет. Таможню проходил на четвереньках. Отдал паспорт — и полз.
— Так легче?
— Чуть-чуть. Хоть как-то можешь насытить легкие кислородом. Под расписку Спасского меня усадили в первый класс. Девки три часа полета только и бегали вокруг. Боялись, что помру. А я задыхался!
— Ужас.
— В Шереметьево меня первым вытащили из самолета, на каталке — в медпункт, сразу дали кислород. Шептал врачам: «Преднизолон! Вколите преднизолон!» Это гормон, который снимает приступ. Они поняли, всадили — и Спасский вывез меня на каталке с чемоданами. Прямо в руки жене. Получайте подарок.
— Представляем ее реакцию.
— Да уж. Шамиль Тарпищев договорился — из аэропорта перевезли в ЦКБ. Дважды там лежал благодаря Шамилю. Удивительной порядочности человек. Один раз я оказался в соседней палате с Роланом Быковым. Был за мной в очереди на функцию внешнего дыхания, я пропустил вперед.
— Его дела были совсем плохи?
— Хуже, чем мои — точно. Рак легких. А механизм астмы запускается внезапно — достаточно банальной простуды. Как-то в марте шел через пустырь, провалился ногой под лед. Добежал до машины — и чувствую: никак не могу отдышаться. Начался кашель. Все, астма!
— Врачи что говорили?
— Иммунолог сказал: «Тебя Господь бережет».
— Довольно странным образом.
— Мама умерла от рака желудка в 41 год. А вот астматики совсем не «онкологические» люди. За счет иммунных сдвигов. Может, я давно ушел бы на тот свет от штуки посерьезнее. А так — держусь.
Отец
— На серьезные юбилеи многих накрывает депрессия...
— Я психологически очень устойчивый человек. Депрессий не бывает. Исключительно удивление: я помню все, что было в школе. До запахов, до мельчайших слов. Вдруг мне — 65! В голове не укладывается.
— Как празднуете?
— Да я праздновал день рождения один раз!
— За всю жизнь?
— Ну да. В пятом классе. Жили в коммуналке, где умещалась наша семья, профессиональная проститутка тетя Муза, принимавшая кавалеров прямо в своей комнате, рабочий с женой, охранник Бутырки и Матрена Владимировна, служка из церкви.
— Срез общества.
— Полный! Вот однажды учительница заявляет: «Дополнительные занятия. Еще один урок». А мне так не хотелось! Я же дворовый! Говорю: «У меня день рождения сегодня. Можно, уйду пораньше?» — «Конечно, Сереженька! Поздравляем тебя! Ты же весь класс пригласил?» Что мне отвечать как интеллигентному мальчику? «Да, всех приглашаю...»
— Какое несчастье.
— Вместо шести друзей явилось сорок человек! Все, даже больные! Каждый подарил по тоненькой книжке. «Рассказы о Ленине» хорошо запомнил. Папа немедленно позвал Валю Павлова, обозревателя «Советского спорта». Тот примчался на помощь. Играл нам на пианино. Поставили торт, отец резал колбасу — но до стола она не доходила. Дети вырывали прямо из-под ножа.
— Не хватило, надо думать.
— Папа бегал в магазин каждые полчаса. Что-то докупал — чтобы они нажрались наконец. Мы с дрожащей собачкой Авоськой сидели в углу. Соседи попрятались по норам. А мои одноклассники бесились в общей квартире. Вакханалия! Затем все ушли во двор-колодец играть — гул стоял до Кремля. Вот тогда я понял — больше никогда!
— Мы вас не осуждаем.
— Я слово сдержал. С того момента не праздновал. Даже 50 лет не отмечал. Ненавижу, когда дарят подарки.
— Что такого?
— Почему-то чувствую себя обязанным. Мне неловко! Не люблю, когда мне говорят добрые слова. Я люблю пикировки, все живое! Вот лежит мой пес Беня.
— Невероятный пес.
— У него все четко: после завтрака прогулка, потом сон, за ним няшки... Мне это не годится! Я люблю экспромты! Помню, получили мы квартиру в Бусиново. Телефона еще нет. А дружили с танцевальной парой Моисеева — Миненков. Так они, зная адрес, взяли и в 9 часов вечера ввалились к нам!
— Разве плохо?
— Восхитительно! Это я люблю! Когда ты достаешь все, что есть в холодильнике. Хотя жена моя Наташка переживает — ее как хозяйку застали врасплох. Меня же от юбилеев тошнит. А кроме всего прочего, в 2003 году в мой день рождения умер папа.
— Вам 65. Зона риска для коронавируса. Вы уже из серии «сиди дома».
— Я понимаю: если заболею — это летальный исход. Общественный транспорт — самое страшное. Езжу только на машине. От некоторых командировок отказываюсь.
— Из близких кто-то переболел?
— Мой друг, хороший фотограф и доктор Михаил Геллер. Очень тяжело выбирался.
— С пенсией вы проскочили, получили в 60?
— Я еще и ветеран труда!
— С медалью?
— Сейчас медаль не дают. Даже удостоверения нет. Лишь какая-то бумажка и социальная карта. Пенсия 27 с половиной тысяч.
— Пишущих спортивных журналистов в возрасте 65 практически нет. Люди живы — но профессионально выдыхаются, уходят в какое-то никуда.
— Фотокоры тоже выдыхаются. Яркий пример в этом смысле — мой папа.
— Знаменитый фотограф Владислав Киврин выдохся?
— Да. Был ведущим фотокорреспондентом журнала «Советский Союз». В 1983-м решил заработать на хорошую пенсию. Отправился в Ирак на строительство гидроэлектростанции. Город Хадита. Ставят турбину — он фотографирует. Довольно механическая работа.
— Сколько там провел?
— Два года. Отец для меня был кумиром, путеводной звездой! Он был человек редкой смелости! Находчивый и талантливый!
— Многие учились на его фотографиях.
— Я тоже. Возвращается из Ирака — и начинает работать на так называемых «сменных полосах». Журнал издавался на 23 языках — для Индии, например, вставлялись свои полосы. Для Вьетнама — свои. Отец подрабатывал как пенсионер. Мне было стыдно!
— Сам он понимал, что все растерял как фотограф?
— Понимал — что-то исчезло. Вот этого у меня пока нет. Я в отличной форме.
— Мы видим.
— Жалею, что в такой форме не был в молодости. Сегодня смотрю свои юношеские работы — как мог вообще быть на каких-то ролях?! Полная беспомощность! А сейчас развиваюсь. Не кисну. Я очень впечатлительный человек, интересующийся, удивляться умею. Этот фитиль во мне не потух.
— Говорите — отец был человеком большой смелости. Пример?
— В 1942-м он вызывал огонь на себя. Служил в наведении авиации. Папу забрасывали в тыл — он шифром сообщал по рации наши самолеты. Давал координаты. Наши его бомбили в тылу у немцев.
— Что-то рассказывал?
— Про войну? Ничего! Разве что какие-то отрывки. Никогда не носил ордена. Говорят, все, кто воевал по-настоящему, в этом отношении молчуны. А языком молоть любят в основном интенданты. Или второй эшелон. Вот они здорово рассказывают про геройства.
— Как же отец выжил на службе для смертников?
— Вспоминал: когда начиналась бомбежка — это ад. Прятался в какой-то щели и иногда с фашистами встречался глазами. А те не понимали, что мой папа — враг. Чужой разведчик. Во время бомбежки человек дуреет!
— Отец прошел всю войну?
— Да. Без единого выстрела! Если пальнешь — обнаружишь себя. Очень этим гордился — что никого не убил. Сам пережил контузию.
— Немцев ненавидел?
— Это во мне к ним было больше ненависти. В детстве, когда слышал немецкую речь, страшно напрягался. Зато потом самыми лучшими друзьями среди фотографов стали немцы. Не просто близкие — они родные люди!
— Что в них такого?
— Очень порядочные. С юмором. Всегда выручат. Есть теннисные фотографы — Пауль Циммер и Штефан Мацке. У нас пул: если мы с Андрюшей Головановым сняли немца, а они русского — обязательно поделимся. Раньше передавали негативы, теперь проще, скидываем в общий чат.
— Они брали ваши фотографии — и подписывали собой?
— Да. То же самое делали мы. Никаких проблем.
Грех
— Рост у вас какой?
— 197.
— С гостиничными кроватями мучаетесь?
— Да нет, сворачиваюсь калачиком. Вот на голове есть мозоль от ударов о косяки. Я с этим ростом всю Олимпиаду в Лиллехаммере спал в туалете. Как-то умещался.
— Это что ж заставило?
— Изначально планировал вписаться в комнату к Голованову и заму главного редактора Чернышеву. Но она оказалась настолько крохотной, что третьего не вместила бы. А туалет в том же вагончике для прессы — значительно больше. С душем. Все удобства! Правда, без окна.
— Да плевать на окно.
— Так это хорошо, что его не было. Уходя, я выворачивал лампочку. Чтобы никто не заходил. Когда возвращался — вкручивал. Запирался изнутри. Меня ни разу не засекли! Народ не мог понять: два туалета рядом. Один бывает свободным — но в нем темно. Или вечно занят.
— Нервы на Олимпиадах не выдерживают. В Пхенчхане вы даже разругались с каким-то святым отцом.
— Да, это стыдно... Отец Андрей. Когда много работаешь и мало спишь — психика нарушена. Болезненно воспринимаешь все, что тебе мешает. Особенно скверную организацию.
— В Корее были проблемы?
— Пхенчхан — одна из худших Олимпиад. Во всех смыслах. Сижу на фотографических местах, снимаю Загитову и Медведеву. Хотелось последить до выступления — их взаимоотношения, взгляды, разминку... Вдруг перед объективом — «Черный квадрат» Малевича!
— Что такое?
— Человек в рясе. Я почему-то подумал — католический священник. Сначала высказался по-русски, а продолжил на английском. Обругал человека последними словами. Выдохнул — и снова начал снимать. На протяжении всего выступления священник сидел рядом и твердил: «Простите меня. Простите меня...» Я опять огрызнулся — но выражения уже выбирал приличнее. Так он раз сто повторил: «Простите меня». Я рассказываю — у меня мурашки по коже!
— У нас тоже.
— Приехал домой, остыл. Думаю — Господи! Какой кошмар! Мне было безумно стыдно, поверьте. А в день отлета нас забирают на автобусе, объезжаем несколько гостиниц. И тут заходит отец Андрей.
— Извинились?
— Да. В итоге обнялись, подружились. Отец Андрей сказал: «Сергей, я молился всю ночь за вас. Знал, что вы хороший человек». Он ведь и не виноват был — увидел свободное местечко, ну и пошел. Стюарды должны были остановить!
— До сих пор, чувствуем, вас эта история не отпускает.
— Да. Это грех.
— В туалете вы спали. Вторая по экстриму ночевка в вашей жизни?
— На Олимпиаде в Барселоне укладывался в ногах у двух тассовцев. Потому что Олимпийский комитет разместил нас в 120 километрах от города. Прекрасный отель, море рядом. Но на соревнования не доберешься. Купил матрас, который потом пригодился мне в Лиллехаммере. Три недели жил у коллег. А выматываешься на Олимпиадах так, что становится все равно, где ночью приткнуться — на полу, в туалете...
— Это усталость — но не страх. С ним, настоящим, познакомились?
— 1990 год. В субботу звонок от друзей-спасателей: «Серега, полетишь с нами на землетрясение в Иран?» — «Конечно!» Паспорта уже разрешалось держать на руках. Прежде-то хранили в международном отделе. Могли выпустить раз в три года в соцстрану. Если хорошо себя ведешь.
— Так что в Иране?
— Тем же вечером перезванивают: «Подгребай в Шереметьево, ты в нашем списке». Назначили меня доктором.
— Это почему?
— Офицеры исламской революции бдят. Журналисты не приветствуются. Вот я и раздавал анальгин, валидол. Там, в Иране, почувствовал, что такое семь с половиной баллов.
— Ощущения?
— Спал на земле около выхода из палатки. Была не зашнурована. Меня подкинуло волной — и летел метров десять. Ничего страшнее в жизни не испытал, ни на какой войне — это звериный страх! Ты не знаешь, что делать. Толчок крестообразный. Вверх и параллельно. Просто подбрасывает. А за мной летел черноволосый парень с одеяльцем. Как Бэтмен.
— Всё-то вы замечаете.
— Я же все время «нажимаю» глазами! Мысленно фотографирую! Счастье, лагерь наш был под горой. Потому что большие камни сошли с другой стороны. А то завалило бы.

Кража
— Вы отработали 16 Олимпиад. Будет 17-я?
— Очень надеюсь! Но Токио и Пекин — близко. Вот насчет 19-й — вопрос. После каждой Олимпиады даю зарок, что на этом всё. Проходит год — начинаешь думать: где там следующая? Поскорее бы!
— Самая тяжелая?
— Все. А самая омерзительная — в Сараево в 1984-м.
— Что такого?
— Организована была безобразно. Жили мы в квартирах, деревня для прессы. Все наши сувениры вынесли, до последнего значка. Думаю, обслуживающий персонал. Но это мелочи! У меня на фигурном катании украли чужую камеру, которую надо было починить.
— Чью?
— Роберта Максимова. Я отремонтировал, он говорит: «Свою не бери. Что тяжести таскать?» Вот ее и сперли.
— Как?
— Прямо из-под носа. Во время заливки льда увидел на трибуне пару Торвилл — Дин. За них, правда, потом получил премию AIPS. Одной камерой снимаю, вокруг толпа. Сумка с камерой Максимова под ногами. Кто-то подцепил и ушел.
— Не сразу заметили?
— Нет. Тут же помчался в полицию — перекройте выходы! Профессиональная камера! «Нэ можно, друже...» Следом прибежал человек из КГБ: «Это дружественная страна, надо, чтобы Олимпиада прошла хорошо. В Лос-Анджелесе мы бы подняли скандал. Но не в Сараево...» Так и замяли.
— Что дальше?
— Вернулся в Москву. Знакомый фотограф продавал такую же камеру, Nikon 3 с мотором.
— Сколько она стоила при советской власти?
— 2800 рублей. Как половина «Жигулей». А за поездку в Сараево я отдал 1200!
— Это не командировка?
— Да вы что! Мы работали для журнала — но мотались туристами. Еще спасибо говорили, что выпустили. Надеялся, что в Сараево обеды и ужины нам вернут. Ну и гонорар. Так талоны на питание выдали за день до отъезда: «Меняйте у официантов как хотите». Отдал по дикому, невыгодному курсу. Вдобавок сперли камеру. А через несколько месяцев я должен был въезжать в новую квартиру. Денег не было даже на табуретку! Это единственный случай в жизни, когда сидел без копейки.
— Неужели единственный?
— С Наташкой думаем: как же мы проскочили? Не были в нужде вообще! Не считали деньги! Может, потребности скромные. Никогда не испытывали вот этого — «надо подужаться». Но когда украли, я пришел в свой домик — и заплакал!
— Любой заплакал бы.
— Я был один, все на соревнованиях. Просто разревелся! Вдруг звонок в дверь. На пороге Слава Ун-Да-Син, старый папин товарищ. Узнал про мою беду. Бросил съемки — тассовский фотограф! — и пришел утешать с бутылкой «Московской» водки. Как-то в Сочи сидели в аэропорту, шеф фотографов EPA Сергей Чириков — верующий в отличие от меня человек — произнес: «Господу Богу абсолютно неважно, какие мы профессионалы. Это полная фигня. Самое главное — какие мы люди и какие поступки совершаем...»
— Максимов-то все узнал?
— Конечно! Но лишений не испытал. Потому что получил камеру даже новее собственной. Повезло мне, что такую продавали.
Аджубей
— Сколько ж вы зарабатывали?
— В СССР? В среднем — 900 рублей! Всё за счет гонораров.
— Ничего себе. Академики получали 500.
— Да. А Грибачев, главный редактор журнала «Советский Союз», — 450.
— Вам-то коллеги завидовали?
— Не без этого. Особенно Аджубей.
— Тот самый?
— Да. Бывший главный редактор «Известий», зять Хрущева. Когда того поперли, Аджубей сразу впал в немилость. То ли в «Омскую правду» его хотели сослать, то ли еще куда-то к черту на рога. Спас Грибачев, с которым в свое время они написали книгу «Лицом к лицу с Америкой». Взял к себе в журнал «Советский Союз» на должность завотдела публицистики. С единственным условием — публиковаться под псевдонимом.
— Ну и какой был?
— Радин. В честь жены. Дочь Хрущева звали Рада. Некогда один из самых могущественных людей в стране оказался интриганом, мелким и завистливым. Как-то в день зарплаты дождался меня возле фотолаборатории, начал возмущаться: «Сергей, в этом месяце вы получили в два раза больше, чем главный редактор!» Я всплеснул руками: «Не может быть!» А тот, не замечая иронии: «Да! 906 рублей! Я внимательно изучил ведомость».
— Нашли, что ответить?
— Потянул его в сторону бухгалтерии: «Алексей Иванович, идемте скорее, все выясним. Мне кажется, действительно вкралась ошибка. Шесть рублей — ваши...» Или вот случай. В конце 1981-го вызвал главный художник журнала, Александр Житомирский: «Сережа, у нас полоса гуляет, нужна выставочная фотография, которая украсит номер. Подберете?» — «Конечно». Принес свежую съемку из Лилля, с чемпионата мира по тяжелой атлетике. Шесть карточек.
— На выбор?
— Да. А он огорошил: «Поставим все, в рядочек, ну и колонку текста». Я удивился: «Зачем? Вы же хотели один снимок, полосный» — «Очень сложно выбрать. А так тоже будет хорошо смотреться» — «Давайте поднатужимся — и отберем лучший. Жалко неплохие фотографии превращать в спичечные коробки. В журнале их и без того навалом».
— Что художник?
— Побагровел: «Вы отказываетесь?!» — «Нет. Просто выставочные снимки в таком виде публиковать нецелесообразно. Могу другие подыскать, как раз под маленький размер» — «Не надо. Забирайте всё и уходите». Я вышел из кабинета, через пару дней забыл об этой истории. Зря.
— Последовало продолжение?
— В том-то и дело. Вскоре Житомирскому исполнилось 75. Собралась вся редакция, юбиляру вручили грамоту, цветы, самовар. После череды поздравлений громко произнес: «Товарищи, прошу не расходиться». Народ оживился, предвкушая банкет. А Житомирский: «Во время подготовки номера случилось ЧП. Молодой фотокорреспондент, работающий без году неделя, отказался предоставлять свои снимки. Он нам диктует, каким размером их печатать!» Кто-то подал голос: «Какие фотографии?» — «Штангистов». Аджубей в крик: «Возмутительно! Да как он смеет?! Ездил же во Францию за наш счет!»
— Ваша реакция?
— Стоял как оплеванный. Когда все успокоились, взял слово: «Летал я на свои деньги. Командировку мне не подписали. И давать фотографии я не отказывался. Меня попросили полосный кадр. Выставочный. Принес шесть, на выбор. А их превратили в спичечные коробки». «Надо еще доказать, что это выставочные кадры!», — огрызнулся Аджубей.
— Чем завершилась экзекуция?
— Полгода меня гнобили. Снимал не спорт, а всякую хрень в рабочих коллективах. Вдруг новость — получаю золотую медаль на World Press Photo в номинации «Спорт». За одну из тех фотографий с чемпионата мира.
— World Press Photo — это как «Оскар» для фотографов.
— Совершенно верно. В редакции вывешивают «молнию», и я сталкиваюсь с Аджубеем. Говорю: «Помните то собрание? Фразу про выставочный снимок? Теперь убедились?»
— Извинился?
— Хлопнул по плечу: «Малыш, не бери в голову. Лучше угости сигареткой. Ты что куришь?» — «Вы же прекрасно знаете — «Мальборо». Я достал пачку: «Пожалуйста...» Аджубей присвистнул: «Ого! У меня на такие денег нет». Демонстративно вытащил «Приму». Я подумал: «Какое лицемерие!» В его кабинете пепельница всегда была набита бычками от «Мальборо». А в кармане носил эту гадость.
Рихтер
— Не считая Сараево — больше с мошенниками не встречались?
— В Болгарии цыгане украли все деньги. Вот это была трагедия! В 1985-м вывез жену с сыном в Варну. Впервые с семьей за границей! Две тысячи рублей обменял, а четыре тысячи шиллингов заработал нелегально. На третий день море нам надоело — решили поехать в городок Толбухин. Что-то прикупить. Взяли «Тройной» одеколон для тестя, какой-то поднос в клеточку... Из сумки вытащили всё, включая паспорта!
— Не осталось ни гроша?
— Ровно 100 левов. А жить надо было 10 дней.
— Почему решили, что цыгане?
— Крутились возле кассы. Потом мы вспомнили.
— Как же в Москву выбирались?
— 30 левов сразу заплатили за фотографии и справки. Я в материальном плане отхожу быстро. Дня три погоревал. А вот Наталью заклинило месяца на два. Так расстроилась!
— А теперь объясните, как советский фотограф мог заработать шиллинги?
— Это мне заплатил Рихтер.
— Мы не ослышались?
— Святослав Теофилович Рихтер. Его племянник был женат на моей двоюродной сестре Тане. Еще студентом я донашивал его английские пиджаки и концертные ботинки. С загнутыми носами от педалей фортепиано. Через Таню попросил сделать обложку альбома — играл Чайковского. Я поехал к нему на дачу. При том, что самого Рихтера ни разу не видел.
— Где он жил?
— На Николиной горе. Я тогда снял портрет Чайковского на фоне незабудок. На эти деньги и собирались кутить в Болгарии.
— С Рихтером так и не пообщались?
— Это к вопросу о моих переживаниях, ребята. Я думал, что все живут вечно! Таких людей упустил! Мог познакомиться с Окуджавой, Рихтером, Высоцким...
— С Высоцким — как?
— Он выступал в редакции журнала «Советский Союз» — я не пошел. Нашлись какие-то дела. Мы готовили материалы о поэтах — я заглянул в Переделкино к Роберту Рождественскому, но до Окуджавы не доехал. Хотя жил он на соседней улице. Да и фотографии Рождественского сгорели!
— Когда?
— В 1993-м. Я был в Лондоне, а на четвертом этаже редакции вспыхнул пожар. Все гикнулось — и мой фотоархив, и папин. Говорили, ответсек Хотинский не затушил сигаретку. А может, вата тлела после сварки.
— Это что же — работ вашего отца почти не осталось?
— Лишь то, что хранилось дома. Вот знаменитая фотография с двумя руками, тянущимися за баскетбольным мячом. Уцелела чудом.
— Потрясающая фотография.
— Это икона для меня. Я так и не смог приблизиться. А он спокойно относился. Никогда не говорил: «Мое творчество»... Если кто-то из коллег называл себя «фотохудожником» — папу трясло.
— Этот кадр остался без призов?
— Да собрал все призы, какие возможно. В «Советском фото» была статья об этом снимке. Пришел-то к нему не просто так.
— А как?
— Увидел, как этот американский игрок картинно выставляет руку, чуть назад. Сразу родился в голове кадр. Очень хороший фон — черный. Потому что трибуны не высвечивались, а только площадка. Сейчас спорных мячей почти нет, а тогда разыгрывали часто. Он ждал! Когда прыгал Андреев, длинный, как свечка и расхлябанный — неинтересно. А вот мускулистый Поливода — совсем другое дело! Так совпало. Папа опубликовал всю раскадровку.
Дельтаплан
— За какую фотографию особенно дорого заплачено вашим здоровьем?
— Я боюсь высоты. А в 1989-м заставили делать материал для журнала «Спорт в СССР» о дельтапланеристах. Надо было ехать в Волоколамск, снимать. Ну и летать с ними.
— Ох.
— А как еще снять? Снизу? Это каждый может!
— Неужели полетели?
— Оттягивал до последнего, целый месяц. Вдруг натыкаюсь в коридоре на главного редактора, тот сразу: «Ты поторопись. Дельтапланеристы запланированы в номер». Дома попрощался со всеми, поцеловал жену, сына, колли Лаврентия. Поехал не спеша. Дельтапланеристы меня видят: «О, мы как раз взлетаем». Я не успел пережить приступ ужаса! Рассовал объективы по жилету, на шею две камеры, — и уселся позади пилота. Почти к нему на шею. За мной пропеллер. А сидение как на стадионах, пластиковое. Довольно скользкое.
— Ремень есть?
— Вот и я спрашиваю: «Как пристегнуться?» — «А зачем? Не надо!» Здесь мне стало дурно. Нужно же снимать, вертеться, наклоняться. Страшно боялся уронить что-то.
— Особенно — себя.
— В том числе. Внизу, вижу, коровы пасутся. Церковь. Поблизости другие дельтапланы летают.
— Высота — тысяча?
— Около того. 700 метров точно было. А еще сильный ветер. Полчаса мы болтались. На высоте страх ушел, наступила невероятная эйфория. Снимал с упоением — забыв, что можно упасть или что-то уронить. Кайфовал!
— Чудеса.
— На земле спрашиваю: «С парашютом реально прыгнуть?» Впервые в жизни я был готов и на такое. А пилот мой что-то синюшный. Руки сведены судорогой. Говорит: «Ничего не заметил? Ветер дикий, я еле удержал руль!» Поехал в редакцию проявлять пленку, встречаю своего друга Володю Лагранжа: «Серега, что стряслось? Ты весь светишься!»
— Так что с парашютом?
— Говорят: «Завтра приезжай — будут прыжки». Но к утру желание пропало. В детстве-то я был трус. Пока не поехали с папой и мамой в Ялту. Шли с моря, детский городок. Стенка из досок, а в них прорези для ног. Высотой метра два. Отец смотрит: «Знаешь что? Давай-ка, перелезь. Потом пойдем дальше» — «Я не хочу!» — «Нет-нет, лезь. Мы подождем». Сели, разговаривают. Я понимаю — выхода нет. Как ленивец долез до верха. Надо еще ногу закинуть, собраться. А они делали вид, что не обращают внимания. Хотя наверняка посматривали. Наверное, час все это преодолевал, дрожа от страха.
— Удалось?
— Да! В мире не было счастливее человека! Что-то во мне в ту секунду за одно мгновение сломалось. Я стал другим Сережей Кивриным. Я защищал девочек. Я лупил, меня лупили. Калейдоскоп!
— Вы же коренной москвич?
— С Солянки!
— Самый центр.
— Дядя Гена, сосед по коммуналке выучил драться — в Москве моего детства это было необходимо. Папа привез хоккейные краги. Одну от Бориса Майорова, другую — от Старшинова. Я надевал боксерские перчатки, дядя Гена — вот эти краги. Молотили друг друга. Однажды пробил защиту — он не упал, но заметно пошатнулся. Я понял: если могу свалить его — то уж с дворовой шпаной точно управлюсь. С тех пор — ни дня без драки!
— Серьезные были?
— Особенно сильно наполучал возле Александровского сада. Поджидали не меня, а моего приятеля Саню. Все думали, что он жуткая шпана — а Саня просто боксер. Собирал радиоприемники и регулярно оставался на второй год. В темном местечке неподалеку от «Ударника» ждали люди намного старше нас. Насовали!
— Ущерб приличный?
— Наутро явились в школу — у кого ухо надорвано, у кого глаз подбит. У боксера — губа раздувшаяся. Раньше на такие драки могли прийти с ножами. Но все-таки были правила.
— Беспредельщики случались?
— Я увлекался марками. Так возле высотки на Котельнической здоровенный парень приставил нож к животу и отобрал мой альбом.
Пленка
— Вы из эры пленочных камер — а с ней могло произойти что угодно. Случалось, что пропадала съемка?
— На больное давите?
— На больное.
— У меня был один-единственный случай. Отправили в 80-е на комбинат «Тулачермет». Все снял, вернулся в Москву. Когда проявляешь черно-белую пленку, очень важна концентрация проявителя. Если будет слишком свежий — пойдет контраст. Температура тоже важна. Надо помешивать. От процесса проявки зависел твой успех!
— Верим — вы были строги и бдительны.
— Проявил пленку. Негативы бриллиантовые, как мы называли. Все читается — при этом ровное и прозрачное. В своей кабиночке развесил над ванной сушиться. Крайне радостный отправился домой.
Знаете, у меня до сих пор перед каждым заданием мандраж — вот сейчас-то поймут, какая я бездарность. Всю жизнь так было! А в тот раз выдохнул: поймут, но не сейчас. Утром приезжаю — возле моей кабинки народ. Ночью шла тоненькая струйка горячей воды. Я не перекрыл до конца кран!
— И что?
— Кабинка маленькая. Эмульсия — какашечками в ванной. Все «бриллианты». Мне стало плохо.
— Ничего не исправишь?
— Повезло — я каждый сюжет дублировал на цвет. Цветной пленки давали мало — ты нажимал пару раз. В 1986-м в Москве проходил чемпионат мира по боксу — мне на весь турнир выдали две катушки «Кодака"-400. Это 72 нажатия. На них надо было снять обложку и четыре разворота.
— Без права на ошибку?
— Если нажимал и понимал, что не попал — минут десять приходил в себя! Ты истратил кадр! На московской Олимпиаде я первые дни больше четырех пленок не мог использовать.
— Самому пленку не докупить? При ваших-то заработках?
— Достать очень сложно. Где-то ее воровали, втридорога продавали. А в магазинах не найти.
— Но Тулу вы спасли?
— Что-то уцелело. Пусть и не лучшие кадры. Я выкрутился — еще и похвалили: «Какой молодец, на цвет хорошо снял!»
— Самые сложные погодные условия, в которых работали?
— 2018-й, чемпионат мира по футболу, награждение.
— Вы о дождике?
— Дождик?! Хлынуло как из ведра! Мы были готовы, тучи-то ходили. Камеру и объективы прикрыл специальными чехлами. Едва финал закончился, все расслабились. Сняли чехлы. Бегу к награждению, на мне три камеры. Но как только вышел Путин — включили «душ». Я все надеялся, что у меня вырубит камеры, и это будет поводом уйти. Был мокрый до трусов!
— Вырубились камеры-то?
— Нет! Ни одна! В пресс-центре вынимаю аккумулятор — из камеры льется вода. При этом работает. Что-то уникальное.
— Снимки удались?
— Любопытные. Был хороший момент — Макрон передавал Инфантино Кубок мира через президента Хорватии, прекрасную девушку. Чудесную во всех отношениях. Она успела этот трофей поцеловать!
— Засняли?
— Да.
Полюс
— Помним ваш потрясающий снимок — двое играют в шахматы. Третий заходит, а за ним из-за двери клубы пара...
— Это на Северном полюсе, 1984 год. Апрель.
— Мороз — градусов 40?
— 35. Ветер — 18 метров в секунду.
— На такой стуже аккумулятор садился через десять минут?
— У меня была механическая камера, без аккумулятора. Работала прекрасно. Вот пленка от холода иногда лопалась. Я там застрял на неделю. Полетел снимать, как ученые занимаются спортом. Это тысяча километров от мыса Барроу. Долго не могли туда попасть — прямо перед нами самолет, приземляясь, сломал ногу о трещину на льдине. Упал на брюхо. А мы тем временем катались по тундре. Делали материал про юкагиров, исчезающий народ.
— Какой же вы счастливый человек. Такие пейзажи, такие сюжеты.
— Но все-таки долетели. Везли с собой газовые баллоны. А я тогда курил. Никто не предупредил, что нельзя. Дым коромыслом, жарим рыбу на керосинке.
— Внутри самолета?
— Да. Как не взорвались? Потом захожу к пилотам: один спит, а командир — женщина в возрасте. По прозвищу Полярная чайка. Сидит, вяжет. Вообще не смотрит по сторонам.
— А самолет летит?
— Ну не падает же. Меня это вязание удручило. Отвлек: «Как же?» Она, не поднимая глаз от клубка, произнесла: «Видишь спицу с резиночкой на конце? Чтобы стрелка все время была на нуле. Тогда с курса не собьемся. Управляй!»
— Как здорово.
— До этого я маялся, пытался в иллюминатор разглядеть медведей — а тут появилась работа. Сидел и подкручивал стрелку. Держал курс с «Полярной чайкой». Но сажала она уже сама. Прилетели — и выясняется: никаких ученых нет. Только квартирьеры. Которые работают с утра до вечера.
— Это кто такие?
— Строят лагерь для ученых. А мне надо спорт снимать! Вокруг полярный день, жуткий ветер. Нельзя ничего бросать на лед — сразу трескается. Даже от окурка.
— Почему?
— Солнце прожигает.
— Медведи были?
— Сожрали двух замполитов.
— Не самая плохая судьба для политработника.
— Медведи охотятся на нерпу. Ложатся возле полыньи или трещины, ждут добычу. Самая черная точка — нос. Его закрывают лапой, прищуриваются. Получается не белый медведь, а сугроб. Нерпе нужен воздух — вынырнет на секунду. Медведю вполне достаточно, чтобы подцепить лапой.
— Замполиту тоже нужен воздух? Эти-то как полегли?
— От одного осталась кокарда, от второго — вообще ничего. Просто не нашли. Лагерь большой, меня поселили в радиорубке. 700 метров до другого домика. Категорически запрещено ходить без оружия.
— Из-за медведей?
— Да. Или ракетницу, или винтовку обязан брать с собой. Всегда на домике висит какое-то оружие. А что такое полярный день? Вот ты видишь закат — и тут же восход. Светло круглые сутки. Я вертел в руках винтовку, думал: не смогу же я выстрелить...
— Почему это?
— Жалко медведя. Мне всегда кажется, что с любым хищником договорюсь. Наверное, я наивный человек. Потому что змея на меня напала.
— Про змею еще расспросим. Медведя так и не увидели?
— Нет. Спать невозможно — иду снимать эти закаты. Прихватив винтовку. Два шага делаю — оборачиваюсь вокруг себя. Потом снова. Все белое, сливается!
— Местные говорили — мог напасть в любой момент?
— Да. Медведи заходили даже в поселок Черский на Колыме, откуда мы взлетали. Ужасно холодно, а я не могу работать в перчатках. Мне надо чувствовать камеру голыми руками. Обмораживая пальцы, снял эпохальный закат. А когда вернулся, пошел отходняк. Дикая боль! Начал стонать.
— Кто ж вас осудит.
— А в радиорубке мне выделили самое почетное место — где по стенам фотографии девушек из «Плейбоя». Захожу, все спят, постанываю сквозь зубы. А оказывается, ребята следили в окно, чтобы со мной ничего не случилось. Страховали с винтовками. Наутро подначивают: «Мужики, а кто девушку вчера приводил? Такие стоны были, такие стоны!»
— Руки-то отошли?
— Мизинец был коричневого цвета. Герой Советского Союза Семенов, начальник станции, на прощание говорит: «Не нравится мне твой палец. Вот адрес, в Черском найдешь врача». Этот доктор всех спасал от обморожений. Я летел, разглядывал палец — и мысленно с ним прощался. Видно же, гангрена...
— Все пальцы при вас. Значит, не гангрена?
— Оказалось — нет. Кончик носа тоже был коричневый. Это камера металлическим краем прикасалась. Отыскал нужного доктора, тот поддатый. Мельком взглянул: «Не-е, резать не надо. Вот мазь». Неделю кожа с рук сходила ошметками, словно перчатки. Лет пятнадцать после этого не мог снимать даже при нуле. Мгновенно сводило руки.
— Как родился тот волшебный кадр — с шахматами и клубами пара?
— Когда увидел, что люди в чудовищных условиях вкалывают по 18 часов в сутки, понял — стыдно отвлекать их ерундой. Просить позировать, изображать спорт... Тьфу! Всю неделю камеру не доставал. Работал наравне с ними. Мы заливали трещины на взлетной полосе. Представьте — минус 35, а ты все время с водой.
— Редкое удовольствие.
— Не то слово! Но в день отъезда деваться мне уже было некуда. Объяснил мужикам, что от них требуется. В ответ: «Серега, да не вопрос». И за 40 минут я все снял. Как они в футбол гоняют на фоне круглой палатки, как на тренажере занимаются, как через трещину прыгают. Но главный, запевный, кадр сделал на кухне. Я заметил, что именно там из-за высокой влажности идет пар, когда с улицы открывается дверь. И вот, сидят двое, играют в шахматы. Третий с мороза заходит.
— Блеск!
— Понимаете, в любой фотографии нужен образ. Например, образ шахтера. А не сам шахтер. Тогда снимок цепляет. Здесь то же самое. Клубы пара — это образ холода. Сразу передает настроение.
Гюрза
— Теперь про встречу со змеей.
— Это в Азербайджане. Делал альбом в Габустане. 60 километров от Баку, древняя стоянка человека. Скалистая местность. Были в апреле — самое змеиное время. Кинулась гюрза!
— Боже.
— Честно — я ждал встречи со змеей. Заехали на плато, вид сумасшедший. Мой сопровождающий Муса окликает: «Ты хотел гюрзу увидеть? Вот! Мертвая». Подхожу — она вокруг камня обвилась, не шевелится. Я прошел мимо нее в сантиметрах — не заметил! Хотя вглядывался!
— Настолько сливается?
— Вы даже не представляете, насколько. Вообще не видно. А тут замер: «Ой, правда! Какая огромная!» Толстая, как батон докторской колбасы. В длину — два метра.
— Укус смертельный?
— У тебя есть 20 минут, чтобы сделать укол. А спускаться до музея больше получаса. Вариантов никаких. Муса хотел ее рукой ухватить — я крикнул: «Ты что? Возьми монопод из машины!» Отошел на два шага к автомобилю — и в этот момент она совершила прыжок в мою сторону. Пасть, зубищи — всё у меня перед глазами! Я как кот отскочил со своими двумя камерами!
— Какое проворство.
— Сам не ожидал. Меня испугала — этого ей оказалось вполне достаточно. Хотя могла атаковать и дальше. Я еще успел сделать кадров пять — как уползает. Картинка вошла в книжку. Эти змеи атакуют и уходят, не собираются с тобой сражаться. К слову, Азербайджан — змеиное место. Надо быть аккуратным. Десять лет там работаю.
— Нам говорили — вы любимый фотограф Алиева.
— Мы даже не знакомы.
— Разве не делали про него альбомы?
— Не про Алиева. Я сделал 13 альбомов про Азербайджан. Очень люблю снимать National Geographic. Гораздо интереснее, чем спорт или политика — это вечное! Жизнь! Впрочем, разговор о другом. Я вернулся обмороженный с полюса — и через четыре дня улетел с коллегой в Индию!
— Перепад в 70 градусов?
— 80! Там было сорок с небольшим. Тоже незабываемая командировка. Все газеты Калькутты и Дели сообщили о нашем приезде! Из Союза многие журналисты мотались в Индию — такого приема не было ни у кого. Встречал почетный караул, таможня выстроилась. Девушки в сари с гирляндами вешали на нас цветы. Мы-то увидели все это в иллюминатор — думали, ждут какого-то важняка. Летел с нами депутат, Герой Соцтруда. Да на него внимания никто не обратил!
— Представляем ваш шок.
— Прилетаем — никого не выпускают. Стюардесса заходит: «Москалев и Киврин летят этим рейсом?» Мы приподнялись: «Летим!» — «Выходите, пожалуйста, товарищи...» Только появились на трапе — грянул оркестр: «Трям-трям-трям!» Кто-то выдернул у меня аппаратуру. А накануне товарищи наставляли: «Будь острожен! В Индии воровство...» Хватаю за рукав кого-то из встречающих: «Обокрали!» — «Не волнуйтесь, все уже в машине». В общем, черти что.
— Действительно.
— Поначалу это было приятно. Вскоре стало надоедать. Каждый день пресс-конференции.
— Чьи?
— Наши. Одни и те же вопросы: «Советский Союз поедет на Олимпиаду в Лос-Анджелесе?» Это апрель, о бойкоте еще никто не знал. Потом я давал мастер-класс. Миллионер, который нас принимал, хозяин издательства «Кхелар Ашар», оказался страстным фотолюбителем.
— Вам на беду?
— Может, и на счастье — когда увидел мои работы, предложил: «Сергей, давайте заключим договор. Вы приезжаете на 12 месяцев, я предоставляю вам студию. Гарантирую миллион долларов». За год! В 1984-м!
— Немыслимо.
— Я как в кино — отвечаю: «Не могу, у меня елки...»
— Эх.
— Ну как советский человек может поехать — и где-то получать миллион долларов? Кто бы меня выпустил?
— Что индус планировал вам поручить?
— Проведение мастер-классов. Несмотря на Болливуд и развитую киноиндустрию, с фотографами там полный швах. Нации просто не дано быть фотографами. Стерильные! Не знаю, почему. В конце этот миллионер, господин Чолдари, подарил нам тубусы. В которых лежали его снимки роз.
— Вот это подарок.
— Отпечатки жуткие. Не очень-то он с резкостью совладал. Вещей у нас было много и без тубусов, говорю Москалеву: «Давай в аэропорту около колонны забудем. Сядем в самолет — и когда наберем высоту, схватимся за головы: все пропало!» А с нами летел тот индус, который организовывал прием.
— Прокатило?
— Разыграли сценку — так индус кинулся к стюардессе. Она к пилоту.
— Посадил самолет?!
— К счастью, нет. Дал радиограмму в аэропорт — отыскали тубусы, прислали в Москву. Прямо в редакцию. А в ноябре сам Чолдари прибыл к нам с визитом — так мы его мутные снимки развесили по стенам редакции.
— Овечкину за хоккейный урок заплатили, кажется, 28 тысяч долларов. Ваши мастер-классы в Индии стоили бы столько же?
— Кому там платить? Бедная страна! Хотя, возможно, это были бы уроки для богатых. Или самому Чолдари приятно было бы иметь рядом такого собеседника, у которого мог учиться? Не знаю!
Уроки
— Самые крутые деньги, которое получили за свои уроки?
— Если я скажу, как у нас платят за уроки, вы упадете со стула.
— А вы скажите.
— Шесть лет я преподавал в МГУ. На платном отделении. Неудобно было отказывать Ясену Засурскому, которого очень люблю. Даже не уточнял, сколько мне платят!
— Не получали?
— Что-то падало на карту — но мне всякие гонорары туда отправляют. Здесь принципиальное мое отличие от Андрюшки Голованова с его буржуазной хваткой. У меня-то хватка социалистическая. Раньше никогда не спрашивал. Теперь буду. Когда Засурский ушел с поста декана, ко мне на дачу заехала куратор курса. Между делом говорит: «Сережа, в этом году изменения не в лучшую сторону. Сократили оплату ваших часов...» — «А сколько было?» — «800 рублей занятие. Стало 300».
— Батюшки.
— Отвечаю: «Милая, извини. Я средний фотограф. Но не помоечный». Лучше в это время поснимаю или почитаю что-нибудь. Да и вообще не люблю преподавать!
— Нам казалось — у вас призвание. Ученики отзывались с восторгом.
— Как-то позвали к Прудникову в школу фотографии, там взрослые люди. На первом занятии вопрос: «Сергей Владиславович, а научите нас отличать хорошую фотографию от плохой». Говорю: «Все, спасибо. До свидания. Больше мы с вами не увидимся».
— Почему?
— Если люди задают такие вопросы — значит, еще не дочитали «Буратино». Начните с этой книжки — постепенно придете к «Преступлению и наказанию». Затем — к Сэлинджеру. Тогда самим станет ясно, где хорошая фотография, где плохая.
— Ушли?
— Да. Периодически бывают мастер-классы для Canon. Мы же с Головановым амбассадоры Canon. Ездим по стране, что-то показываем. Но там вменяемые люди.
— Считается, быть амбассадором такой фирмы — высокая честь. Какие блага все это за собой влечет? Аппаратура выдается задаром?
— Да. Ты можешь брать любую камеру и любой объектив. На любое время. Камера-то есть — а работы нет! Сейчас никому ничего не нужно!
— Из-за пандемии?
— До пандемии что-то было — но тоже не особо. С исчезновением журналов наша профессия почти закончилась. Всё! Canon сделал камеру, которая снимает видео такого уровня, что делаешь стоп-кадр — и можно ставить на журнальный разворот. Качество позволяет. Потихонечку все превратились в видеооператоров.
— Вы это говорили нам на Олимпиаде в Сочи. Приведя в ужас.
— Но ведь так оно и происходит!
— Когда профессия умрет окончательно?
— Года через два-три. Фотографов не останется. Все начнут снимать видео.
— Чем же вы будете заниматься?
— Это вопрос. Может, разговаривать с ангелами. Если не с чертями... Сейчас нормальной фотографической жизнью живут только люди, которые трудятся в агентствах. Вот там есть деньги куда-то послать фотокора. У газет уже нет. Журналы почти все закрыты.
Братство
— За место с коллегами драться приходилось?
— Никогда.
— Всегда спасал рост?
— Я в толпе не работаю. Пусть место будет хуже — но мое. Смотреть, как дерутся другие, мне неприятно. У нас есть негодяи, нерукопожатные люди, отвратительные. В папину бытность, когда не было зеркальных камер, «кремлевский пул» мазал друг другу вазелином объективы. Ты смотришь в видоискатель — все резко. А карточка выходит размытая. Это в зеркальных все сразу бросается в глаза.
— Намазать можно незаметно?
— В толпе-то? Проще простого. Достаточно разок провести пальчиком. При этом улыбается тебе, разговаривает...
— Убирали конкурентов?
— Да. Но сейчас у нас братство. Мне даже кажется — большее, чем у «писателей». Друг другу всегда помогаем. Среди современных фотографов есть настоящие звезды — Саша Федоров, Даша Исаева, Леша Филиппов, Володя Астапкович, Сергей Бобылев... А Володя Песня? Знаете, что заставило его переключиться на фото?
— Что?
— В 2000 году мы съездили с волейбольной сборной на Кубу. Необычайный воздух, старые автомобили, пейзажи. Рай для фотографа. Драйв! Вся жизнь на улице — и особый свет от океана! Люди совсем другой пластики. Когда это видишь — тебе хочется снимать, а не писать. Как-то проезжали порт — негры разгружали муку. Чума! А мы едем на тренировку. Не скажешь же всему автобусу — «стоп!» Хотя... Гену Шипулина можно было попросить. Он замечательный.
— Как и все волейболисты.
— Точно! Какие бы великие ни были — очень земные. Сережа Тетюхин, мегазвезда, изумительный человек. А Жиба, бразилец? Это Пеле волейбола!
— Знакомы?
— Мы не то что друзья. Я подарил ему диск — как он играл в России за «Искру». Потом Лондон, Олимпиада. Вот-вот начнется первый матч с бразильцами. Жиба увидел меня на другой стороне среди фотографов. Перепрыгнул через бортики — прибежал обниматься!
— Лондонский финал пересматривали?
— Ни разу. Я в прошлое никогда не возвращаюсь. Володя Мусаэльян меня за это ругал. Я опубликовал безрадостную фотографию Советского Союза. Серую такую. Мусаэльян сказал: «Ты вспоминаешь только плохое». Но ведь так и было!
— Все серое?
— Любви-то там не было. Я попал в кашу из партийцев, карьеристов, бездарей и малограмотных людей. Которые подсиживали друг друга.
— В журнале «Советский Союз»?
— Да. Выделялись зубры интриги — вроде Аджубея. А я молоденький парень. Но крепкий. Держал удар. В 1937-м меня расстреляли бы, естественно, за мои выходки и слова на собраниях. А они терпели. Потому что «крючка» не было. Я беспартийный, не пьяница, не дебошир. Зацепиться не за что. Наказывали как могли.
— А как могли?
— Делали невыездным. В 1987-м попал в сотню лучших фотографов, которые снимали серию «Один день СССР». Но кто-то «стукнул». Накануне командировки в реакцию явились из военкомата и увезли меня в Хабаровск на сборы.
— Такая серия, что за честь ее отснять?
— Был проект у американцев — «Один день США», «Один день Японии», «Один день СССР»... Сто фотографов разлетаются по стране. Снимают 24 часа в сутки. Всё, что хотят. Потом сдают пленки — и получается альбом. Потрясающая идея!
— Заплатили бы прилично?
— 400 долларов. Хотя меня деньги никогда особо не волновали. Сами приходили.
— Какой город собирались снимать?
— Шевченко. Закрытый для иностранцев. Там атомная электростанция.
— Вы вспомнили личного фотографа Брежнева, легендарного Мусаэльяна. Умершего месяц назад. Дружили?
- Да, много общались. Знаете, как он умер? Володя — голубятник, обожал своих птиц. Давным-давно у него было шунтирование. Еле спасли — одна из первых таких операций. А сейчас будто чувствовал! Всех голубей раздал друзьям. Разрушил голубятню на даче. Прямо накануне кончины.
— До слез.
— Вдруг прилетает его голубь! Мусаэльян сел на лавочку, стал кормить — и умер. Представляете, смерть какая? С крошками в руках... Снимешь такой фильм — скажут: «Ну зачем? Не бывает же». Бывает!
Володя не только огромный талант. Еще образец фантастической порядочности. Неважно, кто тебя допустил — Брежнев или Муссолини. Если ты взялся в это играть, не имеешь права предавать тех, кто тебе поверил. Поэтому ничего плохого про Брежнева он не говорил. Посмеивался над слабостями — к теткам Леонид Ильич был неравнодушен. Автомобиль любил водить. Но он был добрый мужик, судя по всему. Мусаэльян ни одного снимка не опубликовал, где была бы непрезентабельная поза. А другой фотокор попал домой к Галине Брежневой. Пришел с водкой, напоил — и снял, как она танцевала на столе. На фоне отцовского портрета.
— Фотография известная. Мы думали, автор — какой-то англичанин.
— Нет. Наш человек. Допускаю, фотография историческая. Но это нечестно.
— Вам такое предлагали?
— В какой-то момент началась охота на Тарпищева. Причем охотился человек, которого я знаю и хорошо к нему отношусь — Саша Минкин. Я тогда снимал «Большую шляпу». После каждого турнира вечеринка. Все квакнут — начинаются песни и пляски. Ко мне обратились из какого-то журнала — сними Тарпищева в похабном виде. Предлагали большие деньги. Я ответил: ни за что! Прибавляете еще шесть нулей — это ничего не изменит.
Война
— Как вы оказались на войне в Чечне?
— Сначала ездил от «Лос-Анджелес таймс», потом — «Нью-Йорк таймс». Спорт их мало интересовал. В основном горячие точки и демонстрации.
— Хорошо платили?
— Ставка стандартная — 250 долларов за съемочный день. И неважно, где ты работаешь — в горячей точке или в Москве.
— В Чечне насмотрелись всякого?
— Меня дважды чуть не расстреляли за то, что снимал, как рынки «чистят».
— Как это?
— Подъезжают к женщине на БТР. А я фотографирую. Так меня вели на расстрел. На полном серьезе.
— Что спасало?
— Сам я терял дар речи. Но меня отбивал Сережа Лойко, переводчик. Кричал: «Это американец, он не понимает ничего! Отпустите его!» Меня отпускали. 1995 год.
— Если б переводчик не вмешался — могли бы действительно расстрелять?
— Да. Там убивали легко. На войне никто не церемонился — что наши, что чеченцы. Володя Яцина, с которым учились, погиб. Феликса Зайцева, работавшего со мной на «Лос-Анджелес таймс», расстреляли вместе с товарищами.
— Как случилось?
— Яцина попал в зиндан. Видно, его «сдали». Поехал от канадского журнала, тут же взяли в заложники. Не успел ничего снять. Провел в яме несколько лет. У него были слабые ноги, получил ревматизм. Когда началось наше наступление, пришлось менять дислокацию. Из одного зиндана перевозили в другой, через лес, в горы. А он идти не мог — ну и расстреляли. А Феликса высадили из автобуса и прямо около остановки убили.
— Как?
— Да очень просто. Ехал автобус с беженцами, тормознули боевики: «Русские есть?» — «Есть» — «Выходи». Всё! Но я чувствовал себя в опасности среди федералов больше, чем среди боевиков.
— Ну и новость.
— После хотели взять интервью у Шамиля Басаева. Нам сказали: «Не надо туда ехать». Но у нас был американский аутист-корреспондент: «Нет-нет, я хочу!» Погнали. Слава богу, обстреляли наши же — дали очередь перед машиной. Мы с поднятыми рукам пошли к высотке — солдатики узнали, что у нас есть спутниковый телефон, все стали звонить домой. Отпустили — но предупредили, что ехать туда не стоит. Потому что трасса заминирована.
— Это где было?
— По пути в Ведено. Потом мы все равно отправились в Ведено другой дорогой — приехали к дому дяди Басаева. Вечером за столом сидели 11 человек. Женщины, дети. Пили чай. Авиационная бомба прямым попаданием накрыла этот дом. Диаметр — огромный. У меня осколок лежит, я вам потом покажу. Прилетела вот такая «дуся» и всех уложила. Включая соседей. Кирпича не осталось. Я сделал фотографию, совершенно потрясенный. Как раз после этого случился Буденновск.
— Один из нас с первой чеченской привез том «Войны и мира», в котором застрял осколок. Что вы привезли — кроме своего осколка?
— Простреленную в нескольких местах каску. Лежит наверху, в кабинете. Тоже покажу.
— Каска собственная?
— Нет, у меня каски не было. Зато был тяжелый бронежилет. Однажды попали в передрягу. В районе Ведено. Бои закончились, наши отбили какое-то село. Беженцы кучковались возле части. Их всех обещали вернуть в деревню на «КАМАЗах». Мужчин там не было. Сфотографировал все это — и думаю: надо снять сюжет, как они возвращаются домой. Поехали вперед. Гора с редким лесочком, «зеленка». Речка с валунами, чуть поодаль — другая гора. Через речку понтонный мост. «КАМАЗ» может по нему проехать, а на «Жигулях» никак. Двинули обратно. А по нам начали стрелять!
— По машине?
— Да. Выскакиваем, прячемся за валунами. Потом бежим в лес. А стрельба продолжается! Даже понять не можем, кто бьет — то ли федералы, что ли чеченцы. Деревья как бамбук — бессмысленно прятаться. Не знаем, что делать. Вроде огонь прекратился — а как выходить? Слышим звук — от понтона идет БТР. Лойко не растерялся — выскочил на дорогу в голубой каске.
— Могли свои положить.
— Вполне. Оружие на него наставили сразу. Но как-то нашел слова: оттуда идет стрельба, проводите нас... Они развернули пулемет, дали очередь в ту сторону. А нас провели под прикрытием. Мимо убитой лошади с телегой.
Беслан
— Война дарит сильные кадры?
— На войне крайне сложно сделать стоящий кадр. Вот кино — другое дело. Идет страшный бой, человек пригнулся — а как это передать через фотографию?
— Вы работали в связке с американцами?
— Да, пишущие — американцы. Лойко, переводчик, — из Москвы.
— В Беслане работали с ними же?
— Да. От «Нью-Йорк таймс».
— Весь ужас видели своими глазами?
— Мы жили практически во дворе этой школы. Сняли рядом квартиру. Окна выходили так — можно было снимать с кровати. Накануне выпустили 16 человек. Женщин с детьми. Моему американцу, бывшему морскому пехотинцу, приспичило взять у них интервью.
— Такое возможно?
— Ему казалось — возможно. А я привязан к пишущему — не могу отдельно работать! Должен иллюстрировать его сочинения. Поехали по этим адресам.
— Но вы-то понимали, что никто говорить не будет?
— Разумеется. К ним даже не подпустили. Люди из ФСБ стояли около калиток. Не прорвешься! Вдруг грохот.
— Штурм?
— Да. Долбанул танк — а мы с другой стороны, где железная дорога. Стоим на перекрестке. Ничего не видно.
— Тот самый удар, которого никто не ожидал?
— Ну да. А что произошло на самом деле? Объявили короткое перемирие. Чтобы МЧСовцы забрали убитых со двора. Там лежали трупы. А школу окружили ополченцы. С двустволками, с «Сайгой»... Родные заложников!
— У кого-то сдали нервы?
— Судя по всему — да. Или случайно нажал на спусковой крючок. Что спровоцировало взрыв и ответный огонь. Потом танк шарахнул.
— Если б не тот выстрел — жертв было бы намного меньше?
— Не исключено. Когда начался штурм, мы оказались от него отрезаны, попасть к школе уже никак не могли.
— Это беда для репортера.
— Схватил попутку — помчался в госпиталь. Американцев бросил. Сообразил: если буду с писаками — вообще ничего не сниму. Дядька на «шестерке» меня взял. Проезжали улицу, которая простреливалась отовсюду. Весь зад «Жигулей» был в дырах! Не представляю, как проскочили.
— Это чудо.
— Еще какое! Шквал огня! Били и с одной стороны, и с другой. Но снять всю драму от и до не удалось. Может, и к лучшему. Потому что работать было невыносимо. Душили слезы.
— Вы говорили, что чувствовали — в Беслане вас ненавидят.
— Я имел в виду родственников детей, взятых в заложники. У меня до сих пор в ушах страшный вой, который в те дни стоял в Беслане. Люди не просто плакали — они выли. И женщины, и мужчины. А рядом ты, щелкопер с фотоаппаратом. В качестве дополнительного раздражителя. В такой момент сам себя начинаешь ненавидеть. Вот тогда и сказал: «Больше в горячую точку ни ногой».
— В школьный зал после штурма заходили?
— Да. Я по всему зданию успел пройти. Даже на чердак пробрался, оттуда кое-что снял. Трупы уже убрали. Но ботинки потом отмывал часа два.
— От крови?
— От мозгов. Оказывается, у человека они очень жирные. Холодной водой сложно смыть.
— Трупов там вообще не видели?
— Их вынесли во двор, прикрыли. Мои американцы рванули туда, фотографировали. Но я такие вещи не снимаю. Для меня это табу. Как и в случае с Галиной Брежневой.
— На похороны в Беслане остались?
— Нет. Там при мне только одного мальчика хоронили. Меня попросили снять. А утром мы улетели.
— Мы видели ваши снимки из больницы, где оперировали пострадавших.
— Это уже в Москве. Многие детишки были при смерти, и родители решили их крестить. Позвали батюшку, тот зажег свечи. Самый сильный кадр — на фоне свечей у кровати мальчика стоит мама в белом халате. За несколько дней постаревшая на 20 лет.
— Он выжил?
— Я не знаю.
— Были с тех пор в Беслане?
— Нет. И вряд ли буду. Не хочу.
— Вы, пройдя горячие точки, остались атеистом?
— Я агностик. Не верю в познаваемость мира. Его объяснить нельзя. Не могут объяснить ни атеисты, ни верующие.
— Неужели не было в вашей жизни случаев явного проявления Бога?
— Как вам сказать... Я горел. Тонул.
— Про такие истории мы еще не расспросили. Говорите немедленно!
— Горел я в четыре года. Бабушка забыла выключить плитку — от занавески полыхнул дом. А все спали. Очень хорошо помню, как дядя Егор выносил меня через горящие двери. Я совершенно не испугался. Было даже интересно! А бабушка лежала под яблоней с инфарктом. Огромное количество пожарных и зевак. Им давали вещи, какое-то столовое серебро, — они брали и уходили...
— Второй случай?
— Чуть позже с мамой уехал в Ялту. Собрались в Ливадию, подошли к шаланде. Это широкий катерок. На мне была камера «Киев» и полотенце. Без спросу решил зайти первым, а в это время шаланду волной чуть оттолкнуло от причала. Шагнул мимо.
— Стали тонуть?
— Хуже! Зацепился руками за борт. Спустя секунду меня расплющило бы о причал. Но рядом оказался какой-то фронтовик без руки. Единственной ухватил меня и выдернул обратно. Будто щенка. До сих пор помню его коричневый пиджак, залысины и орденские колодки. Еще синюю краску шаланды. Через мгновение раздался треск — шаланду этим самым бортом двинуло о пирс...
— Бедная ваша мама.
— Она потеряла дар речи. А я повзрослел сразу на несколько лет. Хотя даже испугаться не успел.
— В сознательном возрасте что-то похожее было?
— Вернулись с женой из Таиланда. Только приземлились — там цунами! До этого в 2001-м я был в Нью-Йорке на US Open. Прилетел в Москву — и увидел по телевизору, как рушатся башни.
— Могли там оказаться?
— Должен был. Сколько раз приезжал в этот город — все откладывал, не успевал туда зайти. В последний день наконец собрался поснимать Нью-Йорк сверху, рассчитал: до самолета успеваю! Внезапно выясняется — в 8 утра надо снимать в Рокфеллер-центре Винус Уильямс. Куда денешься? Пошел!
— К башням не успели?
— Ладно, думаю, в следующий раз. Пловец Иан Торп в этот день вышел из гостиницы в 9 утра, направился к башням. Вспомнил — забыл фотоаппарат! Вернулся — и это спасло. Все рухнуло, когда с камерой подходил к башням.
Топ-5
— Пять главных фотографий в вашей жизни.
— Есть снимок, который по глубине приближается к папиному. Наполнен простотой и философским смыслом, называется «Талант и поклонники». Снял в Междуреченске, по диагонали. Огромная толпа зрителей — и одинокий лыжник. Вообще-то свои спортивные фотографии я не очень люблю. Но некоторые действительно дороги. К примеру, падение Энди Роддика, в ту пору первой ракетки мира, на Уимблдонском турнире.
— Кажется, вы года три за этим кадром гонялись.
— Да! Я давно выстроил его в голове. Но снять никак не удавалось. То мяч улетит, то теннисист завалится не под объектив, а в другую сторону. На Уимблдоне часто падают: корты травяные — люди не боятся. В итоге три года подряд специально ездил на турнир, ловил момент. И дождался — с Роддиком все идеально совпало.
Или фото Винус Уильямс на «Кубке Кремля». По диагонали, с потолка, на красном фоне, во время подачи. Главное, снял не стандартную фазу — на замахе, с мячом. А после. Фотография абстрактная. При этом узнаваемая — благодаря белым косичкам Винус. Без них эффект был бы уже не тот. Вы, кстати, в курсе, что отец сестер Уильямс — фотограф?
— Нет.
— Мы с коллегами над ним посмеивались. Финансовые возможности семейства позволяли купить какую угодно камеру. Но отец из года в год пользовался маленькой, любительской. Мотался на все турниры и с трибуны снимал объективом 70-200. Который с такого расстояния не добивает. А у меня с Винус была своя история.
— Это какая же?
— Работал с ней американский фотокорреспондент, мой приятель. Как-то подходит на «Кубке Кремля»: «Винус дом построила, хочет оформить. Подскажи, где в Москве картины купить?» Вечером, когда игровой день закончился, сели в машину, поехали в галерею. Но там полотна серьезные, ценник — от 100 тысяч долларов и выше. Уильямс попросила найти что-нибудь подешевле.
— И куда отправились? На Арбат?
— Нет, на Крымский вал, где на улице возле ЦДХ художники продавали свои работы. Ходим, смотрим. Я замечаю грузина. Одет бедно, худющий, щеки впалые. Наверное, дня четыре не ел. А картины чудесные, а-ля Пиросмани. Понимаю — человеку нужно помочь. Говорю Уильямс: «Обратите внимание, очень хороший художник».
— Заинтересовалась?
— Подходит ближе, вижу — глаза загорелись. Спрашивает: «How much?» Он по-русски еле слышно отвечает: «50 долларов». И тут же добавляет, опустив глаза: «А впрочем, сколько дадите...» Я перевожу: «Одна картина — 200 долларов». Уильямс: «Отлично! Беру! Семь!» Грузин, получив почти полторы тысячи, чуть в обморок не свалился от счастья. К нам сразу другие художники потянулись, стали наперебой свои работы предлагать. Где-то даже краски не успели просохнуть. Одну из таких картин Винус купила — с подсолнухами в стиле ван Гога.
— Никто из художников ее не узнал?
— Нет.
— Так мы о главных снимках не договорили. Еще два осталось.
— Четвертый — полюс, зимние шахматы. А пятый... Синхронистка Ольга Брусникина, которую фотографировали с Андрюшей Головановым. Под водой, с тремя золотыми медалями.
— Где?
— В открытом бассейне на Семеновской. Осень, холодина. Голованов стоял наверху, за свет отвечал. А я разделся до трусов, взял пленочную камеру, которой можно снимать на трехметровой глубине, и нырнул. Когда человек под водой выдыхает, из носа идет шлейф, напоминающий соплюшки. Некрасиво. Но и пузыри нужны, без них непонятно, что это подводная съемка. Тогда с Олей договорились: она делает выдох — и потом улыбается.
Премии
— Премий у вас много. К какой прилагался самый внушительный чек?
— В год столетия волейбола ФИВБ объявила конкурс на лучшую фотографию. Первый приз — 50 тысяч долларов. Я выиграл. Пусть нескромно прозвучит, но в победе не сомневался.
— Почему?
— Тогда мало кто умел снимать волейбол. Это очень сложно, там нет владения мячом. Если хочешь снять по-настоящему классный кадр, а не просто игру на сетке, можно просидеть в зале месяц, два, три.
— Самый неожиданный успех собственной фотографии?
— Это моя первая премия — AIPS Adidas Canon, 1981 год. Финиш на Играх в Москве двукратного олимпийского чемпиона Мируса Ифтера. Снимок стараюсь никому не показывать.
— Что так?
— Не вижу в нем художественных достоинств. Ну, бежит эфиоп с поднятым кулаком, празднуя победу. Что особенного? Да подобных кадров миллион! Я и посылать-то его не хотел — настоял Женя Миранский. На московской Олимпиаде мы работали в паре, вот и решили отправить на конкурс совместные фотографии. Договорились — кто бы из нас ни выиграл, деньги пополам. А сумма внушительная.
— Сколько?
— 8 тысяч франков! По тем временам — целое состояние. Отобрали несколько фотографий. А ту, с Ифтером, я в сторону отложил. Женя спрашивает: «Почему ее не посылаешь?» — «Не нравится» — «Ты что?! Хороший кадр!» Запихивает в конверт, я вынимаю, он обратно сует... Порвали! Так он не поленился, прозрачным скотчем заклеил. Вот этот снимок и признали лучшим. Знаете, что самое парадоксальное?
— Что же?
— Почти всё, за что я получал призы, на персональных выставках не показываю. Это довески. Их вытесняют гораздо более интересные кадры. Но они ничего не выигрывают! Ни-ког-да!
— Странно.
— Есть фотографии, которые имеют бешеную популярность. Например, на соревнованиях по плаванию снял с балкона 800-м объективом спортсменку в цветастом купальнике. Получилась эдакая мозаика под водой. Снимок хвалят, кучу лайков в интернете собирает. А на конкурс посылаю — мимо сада.
— Но почему?
— Во-первых, любой конкурс — вкусовщина. Во-вторых, среди членов жюри часто оказываются люди, которые в фотографии мало что смыслят. Как студенты, пытающиеся понять, чем хороший снимок отличается от плохого. Но те честно спрашивают, а эти надувают щеки, делают вид, будто разбираются. Дилетанты!
— Победный снимок на World Press Photo тоже не склонны переоценивать?
— Разумеется. Выиграл я, наверное, потому, что так тяжелую атлетику прежде никто не снимал. Упор был на падениях — снаряда или спортсмена. А здесь другая конфигурация — схватка человека со штангой. Он вцепился в нее и держит до последнего, надеясь, что еще сможет поднять.
— У вас одна премия World Press Photo. А у гражданина из Челябинска — четыре. Есть объяснение?
— Зовут его Сергей Васильев. Обожает голых женщин фотографировать. Не каждый будет этим заниматься, да еще на конкурс посылать. Мне намного интереснее снимать что-то неповторимое. Жизнь. Эмоции. Драмы.
— Ясно.
— Любую псевдохудожественную фотографию, в том числе студийную, легко скопировать. Да, тело бывает разное. С привлекательными формами и не очень. Но голые тетки будут и через тысячу лет. Если Земля не налетит на небесную ось. А что-то эпохальное можно запечатлеть только здесь и сейчас.
— Обнаженную натуру никогда не снимали?
— Разочек было. После того, как российских атлетов обвинили в допинге и прочих грехах, Голованов придумал проект под названием: «Нам нечего скрывать, но есть, чем гордиться». Спортсмены позировали голыми. Причинные места прикрывали собственными фотографиями, сделанными во время их выступлений. Андрюша почти все снял сам, а мне достались биатлонисты.
— Лучше бы биатлонистки.
— Они тоже были. Правда, не самые известные.
— Как вели себя перед камерой?
— Поначалу смущались. Я сказал: «Девчата, расслабьтесь. Воспринимайте меня как старенького доктора». Сработало! А парни вообще без лишних слов скинули одежду, даже не ожидал. Потом выяснилось, что видели похожую фотоссесию то ли шведского лыжника, то ли биатлониста. Захотели так же — красиво и не пошло.
Гении
— Как-то вы обмолвились в интервью: «В плане работы я непримиримый, тяжелый человек». В чем выражается?
— Я категоричный, нетерпимый, максималист. Со мной действительно сложно. Хотя с Головановым не легче. Мы антиподы. Плюс и минус. Во всем! Я знаю, как не надо. А он знает, как надо. Но это не мешает уже 36 лет работать вместе.
— Ссоры бывают?
— Да постоянно! Я 1955 года рождения, Андрюша — 1962-го. Первые годы он еще зеленый был, вел себя тихо. Прислушивался к мнению старшего. А как оперился — всё. Прорезался голос. Последние 30 лет чуть не каждый наш разговор заканчивается ссорой.
— Разбежаться могли?
— Несколько раз пытались. Но поняли — нереально. Слишком тяжело делить имущество. К тому же вдвоем больше успеваем. У нас уже такое взаимопроникновение, что в резких переменах нет смысла. Помню, стоял на ипподроме, ждал, когда вынесут аккредитацию. Мимо шел какой-то человек, крикнул охраннику: «Пропустите, это известнейший фотограф! Андрей Голованов!» Я не растерялся: «Не совсем он. Но и не худшая его часть».
— Ильф с Петровым до последнего дня были на «вы». Не ваш случай?
— Это вообще не про фотографов. Мы все друг с другом на «ты». Независимо от возраста, должности, званий. Настоящий фотограф никогда не будет важничать, строить карьеру, отсиживаться в штабе. Он всегда с солдатами на передовой. А там на «вы» нельзя.
— Кто для вас гений в этой профессии?
— Например, Дмитрий Зверев. Или канадец Грегори Колберт. Его проект «Пепел и снег» — что-то феноменальное. Запредельный для меня уровень. В чем их гениальность? Они создают мир. Мы же его просто фиксируем, на кнопочку нажимаем. У нас техника, не искусство.
— О чем думаете, глядя на работы Энн Лейбовиц?
— Легче всего примкнуть к чужой славе. Если снимаешь звезду, да еще в неформальной обстановке, тебе уже процентов на 60 обеспечен успех. Лейбовиц рано попала к «Роллингам», долго тусовалась с ними, ездила на гастроли. Здесь только полный идиот ничего не снимет. Ну а дальше по накату.
— Вы говорили — легендарный снимок Че Гевары сделал самый беспомощный фотограф на свете.
— Да. И такое случается. Тот кубинец прошел всю революцию, был допущен к Кастро, Че Геваре. Они боролись с режимом, он снимал. Но на выходе — зеро. Я был на его выставке в «Гараже». Работы очень слабые.
— Удивительно.
— Ну не дано человеку фотографировать. В то же время именно он — автор уникального фото, которое знает весь мир. Могу ли я после этого говорить, что человек снимать не умеет? Нет! Я-то такого кадра не сделал. Значит, сиди и не петюкай.
Хомич
— А Юрий Рост? По вашим словам, что-то он прошляпил в раздевалке баскетбольной сборной на Олимпиаде в Мюнхене.
— Мне кажется, не тот объектив поставил. Нужен был пошире. Но ключевая ошибка в другом. Юра снимал в раздевалке, когда решение о результате финала еще не было принято. Зафиксировал какие-то переживания. А нужны были образы этих переживаний. Квинтэссенция. Апогей. У него — промежуточные моменты. Наверное, из-за того, что поддался эмоциям, волновался, разговаривал с игроками. А надо было раствориться. Стать божеством, которое из космоса отстраненно наблюдает за мышиной возней. Вот тогда будут сумасшедшие кадры. Но!
— Что?
— Рост — литератор, у него чудесные книги. Быть еще и гениальным фотографом он не обязан. Хотя у Юры есть роскошные снимки, которым по-доброму завидую. Академик Сахаров на кухне, Давид Кипиани в чаше стадионе, плачущий мальчик... Ну и наконец главное.
— Так-так.
— Он единственный в мире, кто сумел проникнуть тогда в раздевалку нашей сборной. И уже этим велик. Ни у кого нет — а у него есть.
— Алексей Хомич был хорошим фотографом?
— Я очень любил дядю Лешу, относился к нему с огромной симпатией, но его фотографии в памяти не отложились, честно. В журнале, где нужно разрабатывать темы, снимать на разворот, ему было бы сложно. А в газете — нормально. Во время футбольных матчей мы частенько стояли рядом, за воротами. Но если я 90 минут смотрел в свою дырочку, думая лишь о том, что надо снять, то дядя Леша с упоением погружался в игру. Обсуждал вратарские ошибки, сэйвы, место команд в таблице. Для профессионального фотографа — вещь недопустимая.
— На поле это был Тигр. А в жизни?
— Какой Тигр? «Леди и гамильтоны»!
— Кстати! Рассказывал вам Хомич эту историю?
— Как в 1945-м в турне по Великобритании на банкете вышел к микрофону и произнес: «Леди и гамильтоны»? Нет. А спрашивать было неудобно. Дядя Леша — он такой, дружелюбный, но простоватый. Одевался скромно — кепочка, плащ-макинтош...
— Прекрасные люди вам встречались.
— О, да! Вы слышали о Саше Конькове, фотокоре ТАСС?
— Нет.
— Легендарная личность. Дважды невыездной Советского Союза!
— Такое бывает?
— Сначала в Америке отличился. Напился на приеме, устроил дебош. Стал невыездным. Но Саша был замечательным фотографом и веселым человеком, все его обожали. Лет через пять амнистировали, отправился с каким-то оркестром в Копенгаген. Руководителем делегации, как обычно, был комитетчик.
— Это понятно.
— Саша заселился в гостиницу и исчез. Вечером собрание, перекличка — его нет. Комитетчик напрягся. Прождал до полуночи, затем позвонил в посольство: «У нас человек пропал». Явились два лейтенанта в серых костюмах. Кинулись обходить окрестные бары, клубы и всякие злачные места.
— Успешно?
— Нет. Коньков словно сквозь землю провалился. А эти на рассвете вернулись, опустились на скамеечку возле гостиницы. Сидят, переживают. В 7 утра смотрят — по площади мимо редких прохожих бредет советский фотограф. С резиновой женщиной на плече.
— Ай да картина.
— Лейтенанты, давясь от смеха, решили сразу себя не выдавать. Ждут, чем дело кончится. А Саша, пошатываясь, приближается к отелю. Внезапно останавливается, резко разворачивается и шагает в противоположную сторону. Лейтенанты за ним. Видят, как заходит на почту. Там уже жизнь кипит, народ толпится. Саша языков не знает, жестами указывает на резиновую тетю и потом вместе с работниками этого отделения долго ищет пипку.
— Что, простите?
— Ну, кнопку. Чтобы тетю сдуть. Когда получилось, аккуратно сложил ее в коробку, примял, запечатал. Взял бланк и вывел по-русски огромными буквами: «Телеграфное агентство Советского Союза. Саше Конькову. Лично в руки». Тут-то его и взяли под локти.
— Вот это история.
— Была еще одна. В Москве. Уже на моих глазах. Гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского. До начала несколько минут. Вдруг на сцену в элегантных костюмах выскакивают Коньков и Валя Кузьмин.
— Тот тоже фотограф?
— Да. Весьма колоритный. Череп лысый, а сзади длинные волосы — выцветшие, рыжие кудельки. В зале моментально воцаряется тишина. Коньков направляется к роялю, начинает одним пальцем долбить по клавишам — бум-бум-бум. А Кузьмин — к микрофону, устраивает небольшую распевочку. Басом: «А-а-а... О-о-о...» Через пару секунд публика понимает, что это лажа, раздался хохот. Ребята кланяются и под аплодисменты удаляются за кулисы.
— Интересная у вас на стене фотография — Гагарин с Германом Титовым. Отцовский снимок?
— Да. В свое время этот плакат висел по всей стране. Папа рассказывал, как приехал на съемку в Звездный городок. Ходит-ходит — ни Гагарина, ни Титова. Пытается разузнать, где они — все отфутболивают. Часа через два психанул. Ворвался в первый попавшийся кабинет — и матом!
— А там кто?
— Да какой-то мужик. Сразу начал папу успокаивать: «Ты не волнуйся, присядь, сейчас все решим». Позвонил куда-то, выяснил, где космонавты. Положил трубку, еще раз внимательно взглянул на отца и усмехнулся: «Да-а, меня так давно не обкладывали...»
— Кто был?
— Сергей Королев!
— Ну и ну.
— А когда плакат напечатали гигантским тиражом, папа снова отправился в Звездный городок — дарить. Тогда же единственный раз в жизни взял автограф. У Гагарина. Вон, строчка в уголке — «Владиславу Киврину и Сергею в память о космических полетах». 21 февраля 1962 года. Гагарин отдал папе эту фотографию, достал другую и неожиданно произнес: «А теперь вы мне что-нибудь напишите».
— В шутку?
— Нет! Где-то снимок есть, как папа дает ему автограф. Вообще о человеческих качествах Гагарина можно судить по одному эпизоду. Пришел к нему брать интервью Ярослав Голованов. А тот мрачный, долго читает какое-то письмо. Наконец говорит: «Послушай, что пишет женщина из Великих Лук. Муж бросил. А сынишке, который никогда не видел отца, сказала, что он космонавт. Но в школе никто не верит, над ним смеются, дразнят, поколачивают. Затюкали настолько, что боится из дома выходить...» Заканчивалось письмо так: «Юрий Алексеевич, я не знаю, что мне делать. Помогите!»
— Помог?
— Приехал в Великие Луки! 1-го сентября, рано утром. Чтобы за руку отвести мальчика в школу. Вы представляете?!

Карелин
— Как началась ваша дружба с Карелиным?
— В 1996 году незадолго до Олимпиады в Атланте «Лос-Анджелес таймс» заказал материал о Саше. На базу в Подольск, где тренировались борцы, рванули втроем — корреспондент-американец, Сережа Лойко, переводчик, и я. Зашли в корпус, нам говорят: «Карелин в бассейне». А там, кроме Саши, никого. Мы увидели, как он выходит из воды. Схватился за поручни, резкое движение — и полбассейна с его могучих плеч вш-ши-их! Корреспондент попятился: «Я не пойду к нему договариваться об интервью. Боюсь». Лойко, не раз спасавший меня в Чечне, тоже струхнул.
— Отправились вы?
— Да. С двумя камерами на шее захожу в раздевалку и вижу — сидит голый Карелин в позе роденовского «Мыслителя», на него луч света из узкого окна падает. Кадр фантастический, до сих пор перед глазами.
— Но снять нереально?
— Абсолютно. Понимаю — если нажму на кнопку, не только интервью не будет. Но и меня самого. Заикаясь от волнения, объясняю ситуацию. «А я могу отказаться?» — взглянул исподлобья Карелин. Я вздохнул: «Конечно. Мы ведь даже втроем с вами не справимся». Он усмехнулся: «Ладно, сейчас выйду».
— Как прошло?
— Нормально. Когда упомянул Женю Садового, трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, Саша окончательно оттаял. Женьку я часто снимал, слышал, что они дружат. Когда в 1992-м возвращались из Барселоны, хохма была. В самолете сели рядом. Стюардесса узнала Садового, а Карелина — нет. Уточнила: «Вы тоже спортсмен?» Он ответил: «Нет, я его массажист».
— В Атланте и Карелин стал трехкратным.
— За это Ельцин присвоил ему звание Героя России. Награду вручали в Кремле, я снимал. После церемонии протянул Саше визитку: «Я напечатаю фотографии. Если нужны — звоните». Через неделю заехал за ними ко мне домой. Жене представился так: «Саша, спортсмен». Сели в гостиной. От ужина он отказался, только две груши съел. За несколько секунд. Хрум — и вручил мне хвостик. Потом второй. Взяв конверт с фотокарточками, спросил: «Сколько я вам должен?» — «Саша, ты что?! Это подарок».
— Удивился?
— Не то слово! «Вы первый фотограф, который не просит у меня денег. Но я должен вас отблагодарить. Тогда приглашаю на охоту». И тут меня переклинило. Вскочил: «Что?! Охота?! Да если узнаю, что ты убил зайца или белку, я тебе уши оборву!» Карелин покраснел, начал оправдываться: «Да какая охота... Так, шишки кедровые соберем, шашлыки пожарим — и домой».
— Смешно.
— С того момента стали плотно общаться. В 1999-м я уже в «СЭ» работал, проводил фотовыставку на Гоголевском бульваре. Позвонил Саше, пригласил. Он был на сборах в Подольске, привез всю команду. А меня спросил: «Летишь в Афины на чемпионат мира по греко-римской борьбе?» В голове сразу выстроилась картинка. Я заглянул Саше в глаза: «Полечу. Если согласишься позировать мне на фоне Храма Зевса».
— Что Карелин?
— Пожал плечами: «Да какие проблемы?» Хотя знаю, как он не любит фотографироваться. Но раз пообещал — сделает. В Афинах в прекрасный солнечный день мы встретились у колонн Храма. В 9.00, через час у него была первая схватка. Я сказал: «Саня, ты же помнишь, как выглядели древние греки. Маечку придется снять». Карелин насупился: «Культуристы будут смеяться». Но снял. Я еще и штанишки ему чуть-чуть приспустил. Вдруг нас окружил полицейский патруль. С двумя доберманами.
— Что хотели?
— Увести в участок, оштрафовать. Настроены были агрессивно. Оказалось, профессиональная съемка на территории Храма запрещена. Патруль Карелина не узнал. В отличие от доберманов, которые жалобно заскулили. Сели на попу, свесили уши, поджали хвост. Увидев, что грозные псы превратились в кротких шавок, полицейские замерли. Что-то у них в голове прояснилось, быстро переглянулись — и нас отпустили.
— В Афинах Карелин выиграл.
— Да. В зале между схватками мы всегда успевали перекинуться парой слов. Как-то ко мне один легковес подошел, попросил сфотографироваться. За ним второй, третий. Следом тренеры потянулись. Каждому нужно совместное фото на память. Я ничего не понимал, но вопросов не задавал. А два месяца спустя теннис, «Кубок Кремля». Снимаю в «Олимпийском», рядом жена. К ней, когда я в фойе за мороженым выскочил, подходит Мурат Карданов.
— Олимпийский чемпион Сиднея по греко-римской борьбе.
— Верно. Говорит: «Здесь фотограф сидел, я забыл его фамилию. Высокий такой, с залысинами. Бывший чемпион мира по боксу». Глаза Наташи расширились: «Сергей Киврин?» — «Точно! Киврин!» — «Да он сроду боксом не занимался» — «Как?! Нам Сан Саныч сказал...» У меня нос тогда был свернут, пластику позже сделал. В Афинах ребята спросили Карелина, дескать, что за фотограф трется возле тебя? Саша ответил: «Вы что, героев советского спорта не узнаете? Это бывший чемпион мира по боксу!»
— Нос-то вам кто свернул?
— Я еще в институте учился. Ехал на съемку. С камерой, в красивом блейзере. На трамвайной остановке подошел штымп: «Эй, мотыль, гони 15 копеек!» Я послал. Он кулаком замахнулся, пришлось врезать. А через секунду получил по лицу здоровенной пряжкой от ремня.
— От кого?
— От напарника, который сзади стоял. Я его не заметил. В результате — страшный перелом носа, пять операций...
— Почему Карелин проиграл в Сиднее?
— Думаю, вмешались высшие силы. Саше потом сказал: «Возможно, Господь просто тебя сохранил. Стал бы четырехкратным — даже твоя крепкая крыша могла бы поехать». Нельзя быть непобедимым. Это уже божество. А Саша — человек. Хотя ту фотографию на фоне Храма Зевса я и назвал «Бог борьбы». Между прочим, он по-прежнему тренируется, в спаррингах ни в чем не уступает первым номерам сборной России.
— В 53 года?!
— Да! Саша в великолепной форме. Больше скажу — если кто-то уговорит его поехать на Олимпиаду, не сомневаюсь, Карелин выиграет. Готов поставить на эту любую сумму.
— Карелин говорил нам, что в Сиднее плакал.
— Я видел его слезы. Снимать не стал. Мы вообще никогда не обсуждали сиднейскую Олимпиаду. Саше эта тема неприятна. Ну и зачем на мозоль давить?
— Нам после интервью он вручил милую книжечку — сборник цитат Столыпина. Вам что дарил?
— Ой, много всего. Саша — добрый, щедрый. Когда приехал ко мне на дачу поздравить с 60-летим, мы полчаса разгружали его машину. Привез 15 килограммов еды, кучу горячительных напитков, хотя он не большой поклонник этого дела.
— Вы тоже.
— Да. Подарил два старинных фотоаппарата, складные «гармошки». В другой раз на день рождения прислал забавный портрет в рамочке. Стоим рядом, приложив мобильники к уху, хохочем. Кажется, что друг с другом разговариваем. А нам просто позвонили одновременно, в этот момент и сделан кадр.
Харламов
— Василия Алексеева, великого штангиста, вы снимали?
— Нет. Его фотографировал папа для журнала «Советский Союз». Тоже история. После очередного мирового рекорда Алексеев из родных Шахт перебрался в Рязань. Там ему выстроили огромный дом. Олимпиаду, жену, записал личным тренером, получала неплохую зарплату. Каждый день с мясокомбината им привозили лучшие куски. Обком сдувал с Василия пылинки. И вот приезжает папа. Возле калитки протягивает пачку фотографий, которые попросил передать Юра Моргулис, он снимал Алексеева на чемпионате мира. Тот отстранился: «Да на хрена они мне?» Кинул в траву. Папа побледнел. А руки у него были очень сильные, прямо клешни. Схватил Василия за грудки, хорошенько встряхнул и прошептал: «Сука, немедленно подними! Придушу!»
— С ума сойти. Что же было дальше?
— Поднял. И началась съемка. Правда, Олимпиада фотографироваться наотрез отказалась. Плохо выглядела, вместо прически — нелепый пучок. Но нужен был хотя бы один семейный кадр. И когда передавала мужу рубашку, папа рискнул, нажал на кнопку. Вот тут случился второй скандал.
— Расшумелась?
— Закатила истерику: «Я же предупредила — меня не снимать! Отдайте пленку!» Папе ничего не оставалось, как вытащить ее и вручить Василию. Тот возле окна развернул, долго всматривался, наконец воскликнул: «А где же Липа?!» Не понимал, что пленку надо еще проявить. Вообще закидонов у него хватало. Позже приехал к нему из нашего журнала другой фотограф с ответсеком Хотинским. Алексеев сказал: «Дам интервью, если у меня выиграешь».
— В домино?
— Нет. Хотинский должен был толкнуть ядро. А Алексеев — 16-килограммовую гирю.
— И?
— Хотинский выиграл! Метнул ядро на три сантиметра дальше.
— Вы снимали великое поколение шахматистов. Кто помнится?
— Михаил Таль. В 80-е во время партий разрешалось курить, и я поймал момент, как он затягивается сигареткой, размышляя над ходом. Когда смотрел на Таля, перед глазами сразу всплывал образ другого гения — Паганини. Они и внешне похожи. Горбатый нос, шевелюра... Таль обожал музыку, великолепно играл на фортепиано, хотя у него от рождения на правой руке было три пальца.
Еще мне нравится фотография, где два чемпиона мира, Тигран Петросян и Борис Спасский, стоят как бойцы ММА. Нос к носу. Кажется, еще мгновение — и кинутся друг на друга с кулаками. На самом деле у них были прекрасные отношения. Просто Петросян плохо слышал, вот и подошел к Спасскому поближе.
— С Валерием Харламовым общались?
— Врать не буду, друзьями не были. Отношения на уровне «Привет» — «Привет». Но так получилось, что в августе 1981-го я снимал последнюю тренировку сборной перед вылетом на Кубок Канады. В конце вижу — Валера перчатку снял, на бортик облокотился, подпер голову рукой. Задумался. Я сделал кадр. Потом второй — когда к нему Андрей Хомутов подъехал.
— Вы уже были в курсе, что Харламова отцепили?
— Откуда?! Тренировка закончилась, Валера вышел из раздевалки. На нем были моднючие брюки — клеш. В клетку. Засмотрелся на него, а он вдруг говорит: «Слушай, можешь, у Тишки выяснить — еду я в Канаду или нет?»
— Вы настолько хорошо знали Тихонова?
— Да, благодаря Олегу Спасскому. Они дружили, вместе книжку написали. Но Виктора Васильевича я дергать не стал, постеснялся. А Харламову ответил: «Валера, что за глупости? Как можно тебя не взять в Канаду?!» Он покачал головой: «Да нет, там особенный расклад». Повернулся, пошел к «Волге». На ней через два дня и разбился.
Беня
— Вы много лет на «Мерседесе». Первый появился еще в советские времена?
— Нет, сначала у меня был «ушастый» «Запорожец». Кстати, даже с моим ростом удобно. Мотор сзади, впереди полно места. Затем пересел на «восьмерку». А «Мерседес» купил в 1993-м. В Штутгарте, где в это время проходил чемпионат Европы по легкой атлетике.
— Совместили приятное с полезным?
— Да. Из Москвы пилили туда на стареньком автобусе. В делегации было много прославленных ветеранов, включая Валерия Брумеля. Места не всем хватило, некоторые почти всю дорогу стояли. По пути сменили три автобуса.
— Почему?
— Ломались! В последнем, на котором и докатили до Германии, жутко воняло соляркой. Я сказал — все, обратно только на машине. Деньги с собой были. За подержанный «Мерседес», но в идеальном состоянии, заплатил 3500 долларов.
— Перегоняли с приключениями?
— Мне взялся помочь Роберт Максимов. Вели по очереди. А в Польше он заснул за рулем. Я сидел рядом, дремал. Чувствую — по обочине скачем. Открываю глаза — кювет. Ору, Роберт на автомате бьет по тормозам... Остановились в 10 сантиметрах от столба.
— Ох.
— Потом его затошнило, как выяснилось — отравился. Так что до Москвы я уже сам рулил. Главная опасность подстерегала в Белоруссии, на участке Брест — Минск. Там регулярно отжимали иномарки, а людей убивали. Ночью, проходя таможню, решил объединиться с тремя водителями. Пристроились друг за другом — и притопили со скоростью 170 километров в час. Краем глаза замечая на обочине какие-то разборки.
— Проскочили?
— Да. А через год в Москве меня вызвали в прокуратуру. Показали фотографию — древний «Форд»: «Узнаете?» Да, говорю, был такой в нашей кавалькаде. Водителя не помню, а на автомобиль сразу обратил внимание. Состояние ужасное, еще подумал — зачем такую дрянь покупать? Следователь покивал. Спрашиваю: «Что случилось-то?» «Пропал. Ни человека, ни машины. Уже год ищем». Наверное, отстал от нас, тормознули и убили.
— Из-за старого «Форда»?
— В те времена? Легко! Примерно так же погиб в Белоруссии старший брат волейболиста Юрия Сапеги. А фотограф Женя Волков в тех краях чудом ушел от погони, долго в лесу прятался.
— В вашем доме всегда были собаки?
— Да. Мы с женой их обожаем. Авоська прожила 17 лет. Лаврентий убежал. Сорвался с поводка, когда с ним сын гулял. Всё, с концами. Потом возле дома подобрали Антошу. Вышли из подъезда — сидит пес. Тощий, шерсть свалявшаяся, даже не поймешь — то ли колли, то ли сенбернар. Сели в машину, а тронуться не могу. Хотя на съемку опаздываю. Говорю: «Жалко собаку, пропадет». Тут одновременно с Наташей выскакиваем, берем этого барбоса, несем домой отмывать... А теперь у нас Беня.
— Что за порода?
— Очень редкая. Фараон. Другое название — кроличья борзая. Они невероятно умные, но дрессировке не поддаются.
— Как же быть?
— Договариваться! Как с человеком. Объяснять — что можно, что нельзя. Но Беня все равно нас подчинил. С фараоном надо тетешкаться 24 часа в сутки, постоянно уделять внимание. Порода — не для хозяина. Это хозяин — для нее.
— Слышали, летом на прогулке вам досталось...
— У-у! Беня — истребитель. Резкий, быстрый, сильный. В поселке его все собаки боятся. Казалось, за восемь лет, что живет с нами, я уже ко всему привык. Но тут, увидев пса, так дернул, что я с разворота упал плашмя. Ощущения — будто под поезд попал. Разбил в кровь лицо, локти, колени, грудь, руку сломал. Да мне ни в одной драке так не доставалось!
— Беня сочувствие проявил?
— Не-а. Склонился с недоумением, хлопает глазами. Во взгляде: «Дедушка, хватит валяться! Прогулка только начинается...»